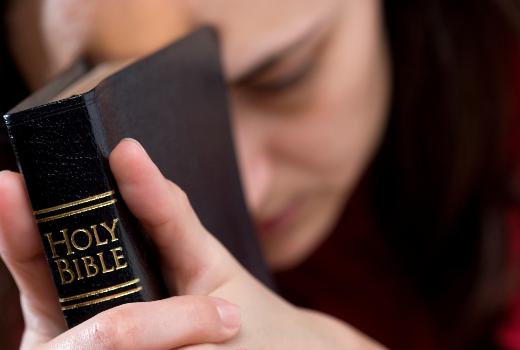![ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕОЛОГО-ФИЛОСОФСКОГО ДИАЛОГА В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОТЕСТАНТИЗМЕ]()
Постсоветский протестантизм представляет собой богатое многообразие церквей и течений, объединенное, прежде всего, негативной идентичностью – непринадлежностью доминирующей в регионе традиции Русской православной церкви и цивилизации «русского мира». Можно предложить и более слабый тезис о частичной принадлежности, со-принадлежности, или же такой принадлежности, в которой удерживается отношении оппозиции и даже конфликтности. В любом случае идентичность протестантов оказывается инаковой или комплексной, сочетающей уместность с неместностью, инаковостью.
Последнее десятилетие РПЦ инициирует спор по поводу общечеловеческих ценностей, судьбы западной демократии и секуляризированного христианства, отстаивая при этом свою конститутивную роль в формировании локального (хотя и с претензией на всемирное значение) «русского мира» особых ценностей, общественно-политических форм, традиционалистского христианства. В эти же годы постсоветские протестанты смогли больше прочувствовать и осмыслить свою чуждость родному, «русскому» контексту и родственность контексту чужому, западному [Спис, 2005; Черенков, 2008; Elliott, 2010].
В то время как РПЦ дистанцируется от наследия западной теологии и философии, отечественные протестанты только начинают его осваивать – осторожно, критично, но все более внимательно и последовательно. В то время как РПЦ отстаивает особость своего пути, «русские» протестанты начинают понимать неособость пути своего, его связь с общехристианскими процессами, с глобальными теологическими и философскими парадигмами. В то время как привилегированные конфессии уповают на очевидный авторитет своей церкви, евангельские конфессии ищут опоры в сложившемся внецерковном интеллектуальном контексте, осваивая «общий язык» культурного интертекста и привнося в него свои оригинальные смыслы. Это сближает постсоветскую протестантскую теологию с философией, в которой, в отличие от религиозных традиций, инаковость приветствуется. Взаимные влияния постсоветской протестантской теологии и философии в ее различных традициях, характер, принципы и перспективы этих влияний, будут составлять предмет дальнейшего исследования.
Протестантизм в целом – специфический тип религиозности, радикальный образом открытый к философскому вопрошанию. Но, принимая вопросительный потенциал философской мысли, евангельские христиане подозрительно относятся к ее возможной самоабсолютизации. «Любая философская доктрина, которая претендует на свою «абсолютность», есть не что иное, как идолопоклонство, утверждающее, что «нынешнее» понимание мира, нынешнее «укладывание» мира в ту или иную понятийную схему является абсолютным. Философия в этом случае превращается в сон помраченного разума. Идолопоклонство можно охарактеризовать как недостаточность в восприятии мира, остановку в движении к Богу. Кстати, в специфическое идолопоклонство может впасть и та или иная богословская доктрина, если она начнет претендовать на собственную законченность и абсолютное совершенство в познании Бога. Познание Бога потенциально бесконечно» [Карпунин, 2002: С.10]. Ссылающимся на апостольские слова об опасности философии («Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол.2:8), евангельский (прихожанин церкви евангельских христиан) философ пояснит: «Апостол Павел призывает нас остерегаться не любой философии, но лишь той, которая становится нашим «идолом», «перегородкой» между нами и Богом, и которой люди начинают поклоняться и служить как Богу» [Карпунин, 2002: С.11].
После падения железного занавеса, западная теология открывается одновременно с философией, и ряд философско-религиозных текстов стал известен ранее теологических. К тому же, если либеральную теологию читать просто нельзя, то философию религии как науку – можно, хоть и опасно.
Именно философия для многих открыла мир христианства. Об этом опыте философско-религиозных инсайтов рассказал философ науки В. Карпунин, ставший в результате христианским философом: «У меня возник один частный вопрос, связанный с желанием понять, как одна математическая система интерпретируется в той или иной другой системе. Меня заинтересовало в этой связи вот что: а как подыскиваются эти интерпретации? Что является их основой? Был некоторый путь чисто рациональных рассуждений, которым я пришел к выводу, что мы находим нужные интерпретации не иначе как, включая некоторый «аппарат» в нашем сознании, позволяющий оперировать с бесконечностью, то есть в сжатое время перебирать бесконечное число вариантов и выбирать из них более или менее правильные, подходящие для решения задачи. Именно этот «аппарат» позволяет нам более или менее успешно оперировать с бесконечностью —действовать в области бесконечности. Я понял, что могу это лишь потому, что аппарат рассуждения о бесконечном, который представляет собой саму эту бесконечность, так сказать, «в свертке», встроен в мое сознание, как и в сознание любого другого человека Высшим Началом, Творцом, Богом… Дальнейшие рассуждения привели к тому, что я открыл для себя то, что в истории философии задолго до моих рассуждений получило название онтологическое доказательство бытия Божия: я пришел сначала к понятию Бога, а затем уже вывел существование Бога из этого понятия. Это был путь, так сказать, кружной, не очень благодатный, видимо. Но я думаю, что Господь приводит к Себе людей разными путями. На мою долю выпал именно такой путь. Ну, а дальше я стал сознательно интересоваться и Библией, и христианством – стал сознательным христианином» [Карпунин, 2002: С.5].
Столь пространная цитата оправдывается сопряженностью в приведенном рассказе нескольких факторов теолого-философского характера: строгой научной методики, запредельного философского интереса, доказательств бытия Бога, мистического опыта Откровения. В отличие от западных теолого-философских подходов, в которых можно верить разумом, быть христианином-рационалистом, так и не испытав собственно религиозного опыта (об этом говорит даже столь близкий к восточной традиции Ричард Суинберн), постсоветские люди даже после семидесяти лет господства атеизма сохранили жажду опытного познания, причудливо сочетая ее с крайним скептицизмом и циничной рассудочностью. Эта, и другие особенности постсоветского философско-религиозного сознания, определяются не только логикой дискурса, но и социокультурными факторами.
В отношениях теологии с философией можно выделить как минимум три важных аспекта: теоретический, социальный и культурологический. В первом из них выясняются связи и границы теологического и философского дискурсов, во втором – их социальные следствия, в третьем – их совместная роль в формировании общекультурного поля. Теолого-философские идеи становятся заметным фактором влияния не только на содержание и способ мышления людей постсоветского общества, но также на содержание и способ жизни, атмосферу интеллектуально-духовной культуры, ценностную и этическую основу поведения, нравственные и смысловые ориентиры.
В теоретическом аспекте теология и философия демонстрируют все большую открытость и близость, сдвигаясь к общим границам. В условиях ограниченной свободы для религии (что определяется государственной поддержкой титульных конфессий) и внутри религии (что определяется известным консерватизмом постсоветских традиционных протестантов) именно философия религии может стать площадкой для интеллектуальных дискуссий о вере и неверии, а также местом формирования свободных, неконфессиональных теологий.
Для протестантов уже известно и вполне приемлемо, что философия религии может быть жанром апологетики. Но остается еще одна, пока не принятая возможность, использовать философию религии как способ самокритики и самопонимания.
Очевидно, что теология способна многое скорректировать в философии религии. Именно такими задачами определяется развитие христианских версий философии религии на Западе. Но что философия религии поможет изменить в теологии? Ни на Западе, ни в постсоветском контексте, этот вопрос до сих пор серьезно не обсуждался.
Тем не менее, уже сейчас можно утверждать, что теология в протестантизме возможна и в философской форме; а философский разговор о Боге можно понимать как разновидность пострелигиозного свидетельства. Но для церковныв интеллектуалов эти кажущиеся очевидности остаются под вопросом: в каком виде может существовать теология сегодня, если она хочет оставаться общественно значимым дискурсом?
Для большинства протестантских церквей, представленных евангельскими христианами, даже систематическая теология считается второстепенной по сравнению с непосредственным чтением Библии [Маграт, 1998: С.48]. Теоретическая форма настолько вызывает подозрение своей близостью к философии, что последней называют любое богословствование, отличающееся интеллектуальными достоинствами.
В то же время, настолько, насколько отечественный протестантизм осваивает западное наследие, получают признание научные и философские формы выражения веры. В последнем случае говорят не о конфликте теологии и философии, религии и науки, а о христианской философии и науке, т.е. о философии и науке, совместимых с христианскими презумпциями. Так для реформатского теолога Абрахама Кайпера, некогда премьер-министра Нидерландов и основателя Амстердамского Свободного университета, всякая наука начинается с веры, а вера, не ведущая к науке, — подделка [Кайпер, 2002: С.215]. Вместе с кальвинизмом в постсоветских церквах распространяется и кайперианский интегративный подход.
В социальном аспекте теология и философия выделены в отдельные профессиональные сообщества, опираются на собственные социальные базы, реализуют свою социальную политику.
Философия оказывается разрушительной для традиционной социальной и теологической основы традиционного протестантизма. Она разоблачает наивный фундаментализм «рабочих и крестьян», составляющих церковное большинство. Одновременно с этим, евангельское движение в союзе с христианской философией привлекает интеллектуалов и реабилитирует церковь в культурном контексте.
Постсоветские протестанты довольно преуспели в работе с молодежью, но так и не сформировали интеллектуальную культурную и научнотиреобразовательную среду. И это вызывает вопросы о содержании и направленности работы церквей с новым поколением. Духовно-воспитательная работа в отрыве от общих мировоззренческих ориентиров не будет достаточной для личностного формирования. Со студенчеством стоит говорить о философии, о целостной картине мира и структуре личности в их связи с темой веры и Бога, отвечая для себя на вопросы: какие аргументы философско-интеллектуального плана наиболее значимы для современников, как возможен разговор о Боге сегодня? Похоже, разговор невозможен в философском либо в теологическом ключе, лишь в теолого-философском.
Теология становится частью более общей интеллектуальной дискуссии о вере. Многие темы теологии тематизируются в нетеологическом – в художественном или философском дискурсе. Если теология не хочет остаться в стороне от проклятых вопросов, ей стоит включиться в широкий общественный дискурс.
С другой стороны, философия задыхается в круге того же, вечного возвращения на свои же основания. Без теологии интеллектуальные дискуссии современности лишаются серьезности и превращаются в интеллектуальное жонглирование. В диалоге с теологией философское знание снова становится мудростью, важной для жизни, практически значимой.
Теолого-философский диалог может стать основой для формирования христианской интеллигенции внутри и вокруг протестантских общин, а также для развития социальных связей между интеллектуальными и христианскими сообществами, между оппозициями внутри образования и науки.
Теология в ее близости и открытости к философии преодолевает метафизический дуализм и социокультурное отчуждение христианства от мира. Здесь находят свое оправдание и антиклерикализм, и даже секуляризм: «Клерикализация – это плохо, но и борьба с ней не всегда хороша. Надо заметить, что какой-то клерикальный потенциал есть и у наших братьев… Не лучше ли признать старый добрый принцип свободы совести для всех, не только для нас?.. Секуляризм же лучше всего трактовать как уважение к различиям и относиться к нему соответственно. Но его не следует слишком ругать, еще Пауль Тиллих сказал, что «Все секулярное потенциально священно, то есть доступно освящению» [Подберезский, 2008: С..89]. Эти слова баптистского интеллектуала покажутся ересью для представителей православной церкви, но именно в таком оправдании общественной культуры можно увидеть протестантскую своеобычность.
В культурологическом аспекте теология и философия образуют основы духовной культуры, выступают как культурообразующие начала. В этом аспекте теология выходит за конфессиональные пределы, а философия – за академические рамки. Вне конфессиональности теология становится христианской философией. Христианская философия здесь и жанр апологетики христианской веры, и способ самопонимания в культурном контексте, и метаязык для разговора о вере между разными традициями верующих, а также между верующими и неверующими.
В отличие от исторических церквей, в протестантизме не сформировался свой особенный язык, поэтому язык современной философии может стать общим языком в диалоге с секулярной культурой. Это язык самовыражения и язык апологетики.
В мире без координат становится все более очевидной новая актуальность Веры и Знания, растущий общественный спрос на теолого-философский диалог. Можно ожидать возвращения теологии и философии в общественный дискурс, причем теология и философия возвращаются вместе. Без теологии философия оказывается в тупике того же самого. Вне философской культуры теологию подстерегают маргинализация и самоувлеченность. В диалоге вера открывается критике, а философия углубляется к основаниям, происходит возвращение в глубину, к первооснове и очевидностям мира как дара Свыше.
В эпоху «пост» философия возвращается к дорефлексивному опыту, а теология поворачивается к проблемности человеческого бытия. В таком диалоге догматы открываются, религиозные истины проясняются в антропном, экзистенциальном и социокультурном ключе.
Далеко не всегда протестанты соглашаются с культурными трендами. Довольно популярны фундаменталистские настроения, выраженные в книге «Фундамент», подготовленной С.В. Санниковым: «Все виды искусства контролируются греховным миром… Христианство с первых дней своего существования имело негативное отношение к культуре» [Санников, 2006: С. 371].
Когда фундаменталисты рассуждают о «мирской» и «христианской» культуре, они говорят о вторичных явлениях бытовой культуры, не понимая и даже не рассматривая культурологические и мировоззренческие аспекты. Отвращают христиан от «мирской культуры» путем запретов – на курение, карты, алкоголь, танцы, рок-музыку, домино, лото, «увлечение телевиденьем, кинофильмами, чтением сентиментальных романов и детективов, ярко иллюстрированных журналов» [Санников, 2006: С. 369-370].
После демонстрирования негативных явлений «мирской» культуры как последствий «обмирщенного» христианства, теологи-фундаменталисты подводят к выводу, что мир «пуст и ничего не может дать человеку» [Санников, 2006: С. 366], следовательно, бесполезность и даже вред философии якобы очевидны.
И все же, несмотря на постоянную внутреннюю критику, уже сегодня сложились несколько направлений, по которым развивается взаимодействие теологии и философии: апология, просвещение, укрепление и развитие разума; переосмысление гуманизма; осмысление религиозного опыта; основание для христианской этики, «практического христианства» как образа жизни; идейная основа для консолидации христианской интеллигенции; научно-философская апологетика христианской веры.
Во всех названных случаях теология и философия взаимосвязаны, но в этой постоянной связи доминируют переменно так, что можно говорить о двух типах: теологизации философии (христианской философии) и философизации теологии (философской теологии).
Христианская философия выявляет и структурирует теологические основы философского знания. «Верить, чтобы понимать» — обычный для нее порядок, естественная последовательность. Вся философия становится оправданием веры, аргументацией в ее пользу, свидетельством внешнему миру, привыкшему к философии и только через нее способному узнать истину теологии. Христианская философия представляет обоснование научно-философской «картины мира», совместимой с христианством. Из христианских оснований философия получает новую перспективу, искупление своего первородного греха, причастность целостному знанию.
В подобном ключе определяет христианскую философию Горазд Коциянчич: «Духовно-пред-положенная христианская – и любая другая «религиозная» — философия как реальный факт, со своим парадоксальным существованием и живой герменевтической рефлексией, которая из нее рождается, доказывает всеобщее присутствие «трансцендентальных» и обусловливающих целостность человеческого познания kata и dia. Обозначенная духовным опытом радикальная мысль беспощадно раскрывает духовную (или анти-духовную) обусловленность каждой мысли» [Коциянчич, 2009: С.8-9].
Попытки осмыслить и оправдать человеческую мудрость, философское наследие в свете христианского откровения, имеют долгую историю. Даже в крайне фундаменталистском крыле советского протестантизма существовала традиция теолого-философских дискуссий и доморощенной, скорее цитатной, чем теоретически-целостной «христианской философии», образцом которой может быть творчество баптиста-диссидента Е. Пушкова.
Особые симпатии Е. Пушков обнаруживает к русской религиозной философии Г.Сковороды, Л. Толстого, В. Соловьева. Следуя примеру евангельского проповедника-философа Владимира Марцинковского, открывшего ему мир религиозно-философской мысли, Е. Пушков советует «каждому изучить философско-религиозные труды», «чтобы еще раз убедиться в том, что как «добрые деянья», так и великие мысли, нисходя «Свыше от Отца светов», опять направляются к Нему, Единому источнику мудрости» [Пушков, 2009: С. 208].
Увлекшись философией, Е. Пушков сам же себя останавливает: «Только пребывание в Боге открывает путь к истинному познанию» [Пушков, 2009: С. 222]. Но приходит к этому выводу он не путем анализа библейских цитат, а в процессе чтения текстов В. Соловьева, так что христианские истины открываются изнутри философских размышлений.
Перечитывая повесть об антихристе, Е. Пушков не удивляется, что для протестантов, «которые более всего дорожат в христианстве личной уверенностью в истине и свободным исследованием Писания», император «подписывает учреждение всемирного института для свободного исследования Священного Писания со всевозможных сторон и во всевозможных направлениях» [Пушков, 2009: С. 230]. Интеллектуальная сила протестантизма ему представляется слабостью по сравнению с мудростью старца Иоанна, бесстрашно заявившего императору, что в христианстве самое главное – Сам Христос, и за это тут же убитого антихристом.
Связывая философско-религиозную сферу «общего откровения» с Писанием и Христом как манифестациями «откровения специального», современные авторы предлагают понятие интертекста. Развивая свою «эстетическую теологию», В. Бачинин утверждает, что «Библейский текст открыт для всех сфер культуры – философии, психологии, нравственности, права, а также для области искусства и художественного творчества» [Бачинин, 2005: С. 18]. Философ называет Библию текстом вторичным по отношению к сверхтексту-Логосу, существовавшему еще прежде мира. В отношении же к социогуманитарному тексту библейский текст присутствует и отдельно, и в смешанной форме, последняя — не менее важна, так как «библиологемы присутствуют в великом множестве западных и отечественных культурных текстов в силу христианской генеалогии нашей культуры»; поэтому христианство предстает как «пространный интертекст, являющийся самоценным и в то же время существующий в динамике разнообразных, положительных и отрицательных, взаимодействий с другими культурными текстами» [Бачинин, 2005: С. 4-5]. В рамках такого широкого подхода даже антихристианские интенции современной философской культуры воспринимаются как антитезис к христианскому интертексту, сделавшему их возможными.
Христианская философия позволяет оправдать человека и человеческое в его связи с Богом и божественным. Наиболее ругательные слова для фундаменталистов – гуманизм, свобода, философия, культура, психология, – помещенные в рамки христианского интертекста, находят новые, одобряющие прочтения. Так, на фоне общей критики гуманизма среди баптистов встречается и такая позиция: «Гуманизм не может быть только плох. В России он всегда понимался как стремление к большей человечности, к утверждению достоинства человека, к развитию заложенных в нем возможностей и сил. В современной России и в ее исторической церкви для многих слова «достоинство личности» и «права личности» сущая анафема…Наши гуманисты все же редко были (хотя некоторые – были) против Бога – на фоне всеобщего озверения большинству из них приходилось апеллировать как раз к Богу» [Подберезский, 2008: С. 90-91].
Белорусский теолог-пятидесятник Александр Жибрик призывает к большему – не только оправдать «человечность», подкрепить ее теологически, но и самой церкви вернуться «назад к утраченной человечности», гуманизироваться: «Люди религии наказали сами себя, устранив себя из своей же собственной жизни, они устранили то, что в нормальных людях мы зовем человечностью, способностью сопереживать и сострадать, не потому что этого требует буква закона, но потому что в этом мы подчиняемся зову нашего сердца. Безразличие делает людей искусственными… Религия, лишенная живых, открытых и честных отношений с Богом, лишает нас возможности не только знать Бога, но и иметь правильное представление о себе. А не знать истинного себя – это и есть жизнь без Бога» [Жибрик, 2007: С. 12].
Подобным образом – связывая антропологию с теологией, культуру с религией – переосмысливается тема свободы. Иллюстрируя библейское учение о свободе, баптистский теолог-арминианин Г. Гололоб обращается к философской традиции, отыскивая в ней не только подходящие цитаты, но и следы откровения: «Бог не мог оставить человечество в совершенном неведении. Следовательно, философские построения не могли не опираться на оригинальность христианского учения, в своих основах носящего богооткровенный характер. В отличие от библейского Откровения, данного людям в готовом виде, философская мысль пыталась охватить проблему свободы постепенно» [Гололоб, 2008: С. 4]. Здесь философия не оппонирует теологии, а дополняет ее, поясняет ее высокие истины в антропологическом ключе. В свою очередь, теология не навязывает свои истины философии, но ориентирует ее в поисках и высвечивает ее особенный путь.
Тема человека прочитывается не только в теоретическом плане, но и в качестве социальной программы. Хорошо прочувствованный опыт советской дегуманизации и новый опыт крайностей секулярного гуманизма, нуждаются в теологической рефлексии и оценке. Беларусский христианский деятель Юрий Бачищев, призывает к осторожности в отношении к современному гуманизму, выражая тем самым настроение большинства евангельских христиан:«От либерально-демократических ценностей церковь не должна отказываться, но должна принимать их критически» [Бачищев, 2007: С. 36].
Критика в адрес постхристианского гуманизма, размывающего основания европейской цивилизации, звучит со стороны евангельских христиан давно, особенно громко – после Второй мировой войны. Одним из учителей «христианского консерватизма», видным оппонентом современных форм гуманизма и релятивизма, был основатель религиозно-философской общины «Убежище» Френсис Шеффер, работы которого очень популярны в бывшем СССР. Все послания Шеффера несут в себе мощный контр-культурный заряд, призывая к сохранению христианского исторического наследия и противостоянию современности как таковой. Суть его теологической программы можно передать следующей цитатой: «Отличительной чертой современной формы гуманистического мышления является экзистенциалистская методология. Как христианам, нам не следует соскальзывать в нашу собственную форму экзистенциалистской методологии. Мы создаем наш собственный вид экзистенциалистской методологии, если помещаем то, что говорит Библия об истории, космосе и абсолютных моральных требованиях, в контекст специфических представлений культуры. Поступая таким образом, мы наверняка ограничиваем возможности будущего поколения в отношении исторического христианства» [Шеффер, 2007: С. 219].
В те же годы стал популярным подход Карла Генри, передающий в философском ключе ту же интенцию на самодостаточность библейского мировоззрения: «Христианская религия не обязана принимать a priori внешние по отношению к ней гипотезы или приспосабливаться к этим гипотезам и их сторонникам – чтобы иметь право серьезно обсуждать метафизические вопросы» [Генри, 1993: С. 27]. Генри определяет свою позицию как презумпционизм, при котором доказывать что-то можно лишь изнутри принятой системы, в этом его позиция перекликается с постмодернистским пониманием истины как истины «групповой» и «опытной»: «Если презумпционист – это тот, кто полагает, что любой мыслящий человек отталкивается от каких-то исходных предпосылок, то я – евангельский презумпционист» [Генри, 1993: С. 25]; «Я исхожу из того, что дедуктивный метод в теологии правомерен, а предлагаемая эвиденциалистами альтернатива – нет. Так называемые «теистические доказательства», считаю я, не убеждают в том, что есть Бог, открывающий себя в Библии» [Генри, 1993: С. 23].
Не только антропология, но и логика в свете христианской философии оказывается фундированной законами Творца человека и мира. Примечателен учебник по логике для «верующих и неверующих», написанный в соавторстве философом и теологом, в которой утверждается: «Бог – высшая Сущность, Абсолют и Эталон истины, универсальные законы логики отображают Его волю как Творца нашего мира со всеми его законами… Таким образом, христианское мировоззрение способно обосновать как существование самих законов логики, признавая, что они исходят от Бога, так и то, что человек способен их открывать» [Панич, Головин, 2010: С. 160-161]. Нетрудно заметить, что тот же оптимизм, ранее проявляемый по поводу возможностей науки, перекочевал в христианскую философию Плантинги, Шеффера, Генри, а также в тексты их постсоветских последователей. На таком оптимизме основана так называемая научная и философская христианская апологетика.
Между тем в подлинно современной теологии самоуверенности поубавилось. Она понимает недостаточность интеллектуальных аргументов, их не-у-местность в постхристианском мировоззренческом контексте: «Без Откровения Бог остается, по известному выражению Лапласа, просто «гипотезой, которая «объясняет» нам что-то (например, возникновение мира или существование морали)», но остается чем-то, о чем можно сколько угодно рассуждать, но не становится живым Богом» [Тихомиров, 2009: С. 25]. Далее автор и вовсе отбрасывает возможность интеллектуально-философской апологии веры, призывая использовать философский ресурс скорее для критики форм веры, чем для доказательств возможности веры: «Вопрос о том, существует ли Бог объективно – это ложный вопрос. Он пытается загнать Бога в рамки наших привычных субъектно-объектных отношений. Но эти рамки тесны для Бога… Всякая речь о Боге, лишенная элемента субъективной заинтересованности, затронутости, бессмысленна и пуста» [Тихомиров, 2009: С. 45]. Так на смену способам познания приходят личностно окрашенные метафоры пути, встречи, общения.
Современная теология находит себя на дороге в Эммаус, метафору которой прекрасно обыграл Дэвид Смит, увидевший в историческом христианстве и постантропоцентричной философии – попутчиков: «Эти две традиции, долго считавшиеся диаметрально противоположными и разделенные чем-то вроде гражданской войны, мешавшей им видеть, как они связаны исторически, теперь оказались спутниками по дороге в Эммаус. Так может быть их общее ощущение утраченного видения и неопределенности будущего станет тем контекстом, в котором между ними может начаться реальный диалог?» [Смит, 2011: С. 21].
Попутчиками для христиан могут стать не только родственные им философы, но и представители других религий, совершенно неожиданные, неизвестные ранее –совопросники-собеседники: «Безымянный попутчик на дороге в Эммаус послужит для нас напоминанием о том, что к нашему разговору может присоединиться любой, и мы должны быть готовы принять в качестве ближнего всякого, кто страдает от отчужденности, разочарования и смятения в сгущающемся сумраке стареющего мира» [Смит, 2011: С. 25].
Продолжая осмысливать метафору пути, отметим соприсутствие двух возможностей, сохраняющихся сквозь историю протестантизма от Реформации до настоящего времени – «путь Лютера» («скромная», бескомпромиссная библейская теология) и «путь Меланхтона» (путь компромиссов, развитой систематической теологии, поиска единства в разных традициях). Эта упрощенная, но эвристичная типология была предложена в докладе епископского визитатора ЕЛЦ Европейской части России Дитриха Брауэра [Брауэр, 2011: С. 6-13]. Если на первом пути подстерегают опасности фундаментализма, то на втором угрожает утрата идентичности, центра, фундамента. На перекрестке эти путей находит себя теология постсоветских протестантских церквей, и под вопросом оказывается не только возможность христианской философии, но и возможность теологии, открытой критике, в том числе критике философской.
Философская теология обращена внутрь, к собственным смыслам веры и христианской традиции. Философская теология содержит в себе и возможность философской критики теологии в ее традиции, ведь «Церковь реформирующаяся – это церковь критикуемая» [Брауэр, 2011: С. 8].
Здесь позволяется философская рефлексия теологических основ, приветствуются сомнение и усилие понимания. «Понимать, чтобы верить» – этот девиз выражает интенцию на философское осмысление веры, на раскрытие ее внутреннего (сверх)рационального потенциала.
В усилии философского понимания веры открывается условный характер ее, веры, традиций, и безусловное значение ее центра, ядра, «узкого круга ортодоксии», в котором – Христос, крест, вера, благодать, Писание, церковь. В общении с философией протестантская теология осознает свой радикальный характер, при котором всегда остается момент несовпадения, нестыковки, инаковости, неотмирности.
Сомневающаяся философия и протестующая теология оказываются близкими в своем радикализме, но если первая находит в конце поисков живое чувство отчаяния, то вторая — столь же подлинный и непосредственный опыт веры.
Антон Тихомиров, ректор Теологической семинарии Евангелическо-лютеранской церкви, видит особенность протестантской теологии в ее радикальном характере и протестном потенциале, требующей для веры ни меньше, чем первоосновы, о которой вслед за Лютером можно сказать: «На сем стою, и не могу иначе». Пересматривая традиции, теология обращается к живому опыту веры, к ее очевидностям и неоспоримым фактам: «Речь об откровении – это всегда речь веры, речь изнутри веры. Вне моей веры в то или иное откровение этого откровения для меня просто не существует. Я его не воспринимаю как откровение» [Тихомиров, 2009: С. 44].
Вера приходит извне, но является внутри человеческой ситуации, освящая своим приходом сам контекст появления. В такой событийном характере веры сохраняется надежда внутри любого философского вопрошания, в том числе и сомневающегося («Вера смотрит не на себя самое и доверяет не себе самой, а Богу, открывшемуся нам во Христе» [Тихомиров, 2009: С. 59]), и даже атеистического («В Своем «да» человеку Бог не игнорирует грех… Бог говорит свое безусловное «да» изнутри страстного отрицания» [Тихомиров, 2009: С. 69]. Так утверждается значимость основных экзистенциалов и оправдывается экзистенция в свете веры, «экзистенция к вере». А. Тихомиров в связи с этим предлагает специфическую конфессиональную типологию: «Если в православии речь идет прежде всего о мистическом опыте, то в лютеранском благочестии – об экзистенциальных переживаниях верующего» [Тихомиров, 2009: С. 149].
В диалоге с философией конфессиональная теология становится открытой. Протестантизм, остающийся довольно консервативным в вопросах доктринальной теологии, развивается наиболее интенсивно на границах. То, что не может высказать протестант-теолог в церкви, он может озвучить на научной конференции, или написать в философской монографии. Можно говорить о деконфессионализации, когда конфессиональная теология переходит в режим религиозной философии – внеконфессионального философского осмысления теологических основ.
Философия учит теологию смирению, делает ее минималистской и толерантной. Лешек Колаковский, шутя, определял теологию как «науку о том, что теология – самая мудрая из наук» [Колаковский, 1999], с чем вполне серьезно согласится большинство постсоветских протестантов, у которых теология или «просто вера» – «наука Христова». Но смиренная теология прислушивается к голосам постмодерна, в критике других наук и нарраций она слышит вызовы себе.
Смиренная теология не только слышит, но и откликается на критику постмодерна. Минималистская теология осознает неподвластность истины и ее, истины, рассредоточенность, роз-данность другим традициям, наукам, культурам, религиям. Минимализм означает добровольную ограниченность теологии довольно узким кругом ортодоксии, соглашаясь с содержанием которой, вокруг можно интегрировать иные «откровения». Такая ограниченность теологии позволяет освободить пространство для философии как ближайшей науки, совмещающей «ультимативную заботу», предельную углубенность, с творческим, свободным, критическим исследованием. В постмодернистских версиях минималистская теология именуется «щедрой» и «смиренной», поскольку откликается на «призыв отказаться от догматичности в вопросе доктрин» и включает в ортодоксию «доктрины, которые христиане исторические оценивали как аномальные или еретические» [Соловий, 2010: С. 60].
Анализируя новые подходы к ортодоксии в союзе с постмодерном, теолог-пятидесятник Роман Соловий заключает: «Евангельское христианство может извлечь много уроков из постмодернистской критики проблем современности, но оно должно с большой осторожностью относиться к постмодернистскому варианту их решения, ведь после деконструкции метаповествований и языковых систем не остается реального пути от «того, что есть» к тому «что должно быть» [Соловий, 2010: С. 73]. Одним из анонсированных выше «уроков постмодернистской критики» может быть новый взгляд на теологию, при котором ее истины основываются главным образом на опыте личного или группового проживания, а также специфически преломляются в каждом данном социокультурном контексте: «Истины христианства не поддаются постижению внешним наблюдателем, их познание осуществляется через присоединение к сообществу, в жизни которого истины находят свое воплощение» [Соловий, 2010: С. 65].
Откликаясь постмодерну, теология резонирует с его основными темами и настроениями, добавляя в них жизнеутверждающий элемент и знаки надежды. Как и наука, теология не может отныне быть универсальной, зато становится у-местной, кон-текстуальной. При такой ограниченности, локализации, теология становится ближе, а из близости рождается диалог.
Философская теология признает присутствие истин, известных другим наукам и неизвестных ей; знает об «общей Благодати», которую нельзя присвоить; понимает нетождественность наук, в том числе теологии, и «науки Христовой».
Теологи-фундаменталисты оппонируют философии, отстаивая только «специальное откровение», данное в Писании. «Всякая философия, будь то древняя наука или современная, в сущности является стремлением к человеческой мудрости ради самой мудрости. Но мудрость как самоцель фальшива и бесполезна. Это пустой обман сатаны, предложенный человеку еще у дерева познания… Господь Ииусус Христос есть истина. Так что не стоит тратить отведенное Богом время на человеческую мудрость» [Философия и пустое обольщение, 2010: С. 36], — утверждает издание Славянского евангельского общества.
Подобный библицизм можно считать наивно-искренним подходом простых некнижных проповедников-теологов рабоче-крестьянского происхождения, если бы не его явная социокультурная обусловленность, при которой сама Библия подменяется ее специфическими интерпретациями, возникшими в локальном контексте и легитимирующими локальную церковную традицию. Данный библицизм (библиоцентризм, буквализм) выглядит обоснованным в постсоветской ситуации, понятным с точки зрения историко-культурных аспектов, но все это не дает никаких оснований считать его «евангельским» (.См. свежую и крайне интересную работу Кристиана Смита [Smith, 2011], в которой разбирается не-евангельскость библицизма, в том числе на примере подходов Джона Макартура, наиболее влиятельного теолога в среде традиционных баптистов бывшего СССР).
«Для трезвомыслящего христианина становится ясно, что единственным истинным и непогрешимым источником бого- и миро- познания является только Священное Писание. Только такое отношение может гарантировать в век обольщения и духовных заблуждений возможность сохранить истинную и чистую веру» [Фундамент, 2006: С. 397], — заявляет в своем компендиуме ведущий баптистский пастор-теолог, критикуя тем самым не только философскую теологию, но и любую другую теологию, многообразие и своеобразие которой не вписывается в легальную, «истинную и чистую» интерпретационную версию Писания.
Такой библицизм встречает все больше возражений, причем не только со стороны постмодернистских подходов (среди них особенно влиятельны постлиберализм и теология Появляющейся церкви). «Формальная логика – главный инструмент богослова, позволяющий соотнести всякое новое знание с известным ранее» [Панич, Головин, 2010: С. 165] – классический протестантско-модернистский ответ пастора независимой евангельской церкви, адресованный наивно-буквалистской герменевтике, а также мистицизму церковной традиции и релятивизму постмодерна.
Апелляция к логике – не только способ апологии веры, но и апологии разума, меркнущего в сумерках постмодерна. По мнению теолога-адвентиста М. Балаклицкого, секулярный, без-божный разум, возвышаясь и противопоставляя себя вере, слабеет; финал секуляризма – мистика и релятивизм: «Разум обнаруживает свою ограниченность. Но даже растерявшись перед сложностью новейшей модели мироздания, иррелигиозный человек не желает возвратиться к вере-поклонению, а после разочарования в самом себе, отступает к языческому мистицизму» [Балаклицкий, 2009: С. 179].
Разум нужно защитить – общий тезис тех философов и теологов, которых пугает растущий разрыв между антично-христианской интеллектуальной традицией и постмодерном. Поддержать остатки или следы «разумного, доброго, вечного» внутри постмодерна призвана христианская философия. Преодолеть соблазны постмодерна внутри христианской традиции и сделать при этом ее вновь актуальной – задача философской теологии.
Для постсоветского протестантизма наиболее заметной реакцией на постмодерн стала эскалация фундаменталистских настроений. Вполне естественно, что столкновение религиозной культуры с культурой философской вызывает фундаменталистскую реакцию. Но преодоление фундаментализма возможно не путем движения вспять – от теолого-философского взаимодействия культур к внутренней субкультуре, а по пути вперед — через теологическое усвоение философской культуры.
Фундаментализм – агрессивный постмодерн с религиозным лицом. Конфессиональные авторы признают, что «Небольшие деноминации (а таковыми в России являются почти все протестантские) изначально тяготеют к «фундаментальности»: пребывание в «малом стаде» всегда располагает к большей ортодоксальности, ибо она защищает малые религиозные объединение от размывания и поглощения большинством» [Подберезский, 2004: С. 39]. Это объясняет, но не оправдывает сектантскую неприязнь к иному (философскому, научному, творческому) типу разума или к разуму как таковому: «Проблемы, с которым сталкивается человечество в постиндустриальную эпоху, требуют увеличения роли разума, однако и постмодернизм, и противостоящий ему фундаментализм, отводят разуму все меньше места» [Подберезский, 2004: С. 41], приходит к выводу исследователь-баптист.
Философские импликации теологии в протестантизме были бы невозможны, если бы фундаментализм стал монопольной теологической парадигмой. Но уже сама география постсоветского протестантизма делает такую монополию невозможной и даже немыслимой. Соседство с православной традицией и растущее напряжение на границах с исламом вынуждают к инкультурации теологии, ставят вопросы о выработке ее разнообразных форм, уместных и понятных в отдельных контекстах.
Там, где не возможна конфессиональная теология в ее чистом виде и стандартных, зачастую импортируемых, вариантах, актуализируются философские и культурные аспекты и модусы теологии. В некоторых постсоветских странах затруднителен даже ввоз Библии, но пока вполне доступна научно- и популярно-философская литература, основанная на христианской теологии и ее по-своему выражающая. Большинство конфликтов между разными версиями христианства или разными религиями возникают на почве собственно религиозной или теолого-политической. Философская теология – наименее конфликтная сфера, здесь возможны диалоги и взаимодействие, здесь оппоненты не враги, а такие же субъекты духовно-культурного процесса.
Конечно, теология, прежде всего, часть церкви, ее служение, собственная функция, внутренняя интеллектуальная и духовная культура. Но если теология хочет стать большим – свидетельствуя миру и преображая его образ, она должна быть и философской теологией.
Современные евангельские миссиологи в поисках общего языка (common ground) указывают на философию как на один из универсальных языков культуры, способный стать каналом трансляции христианского мировоззрения: «Переход человека из «эллина» в «иудея» требует обращения, метанойи, полного переворота сознания и мышления, именно к этой цели стремится Павел в Афинском Ареопаге. Так Апостол не ссылается на Моисея или пророков, поскольку подобные ссылки были бы бессмысленны для его слушателей. Провозглашая истинно библейское учение в культурном контексте своей аудитории, Павел цитирует греческих мыслителей» [Головин, 2008: С. 34].
В отличие от методов апостола Павла, современная церковь практикует эзотерический, внутрицерковный язык проповеди. По мнению Геннадия Савина, профессора Московской богословской семинарии ЕХБ, «Человек, приходящий из «мира» в церковь, по сути занимается изучением языка церковно-религиозной коммуникации. Это обучение связано с катехизацией, догматизацией и ритуализацией вместо построения личных отношений с Богом и подлинной жизнью в Духе и Истине. Итак, поиск общего языка между церковно-религиозным и светским дискурсами является основной задачей современной христианской философии и богословия. Эта непростая задача связана с анализом и переосмыслением христианского богословия, которое должно выходить из рамок средневековой схоластической традиции, с большим уважением и вниманием относясь к современному человеку, осмысливающему окружающий мир и себя с точки зрения современной же картины мира» [Савин, 2010: С. 140].
Создание общего языка предшествует созданию своего, а не иначе, поскольку язык церкви – язык проповеди миру, а не себе. Тот очевидный факт, что в протестантской теологии собственный язык ограничен в словаре и применении, не обедняет ее, а освобождает для освоения других языков, языков человеческой культуры и философии.
В материалах Первого евангельского собора отмечается, что создание собственного дискурса «требует определенной культуры церковно-управленческого и теолого-философского мышления» [К стратегии развития…, 2010: С. 9], и предпочитается «третий путь» – не ассимиляция и не дистанцирование, но «усвоением церковью того богатства знаний, которое накоплено человечеством, переосмысление этого богатства в свете евангельских ценностей (фактически, воцерковление языческой мудрости)» [К стратегии развития…, 2010: С. 26].
Такое приветственно-диалогичное отношение к историко-культурному наследию и даже новоязам поясняется специфическим взглядом на прошлое и будущее, при котором евангельская линия необходимо и неустранимо вплетена в общую ткань цивилизации. «Даже будучи репрессированным, евангельский дух продолжал свое действие в истории нашего народа. Именно в этому духе, а не в официальной религиозности – истоки и русской святости, и русского богоискательства, и русской религиозной философии, и российского евангельского движения» [К стратегии развития…, 2010: С. 18], утверждается в тезисах Евангельского собора. Здесь в один ряд поставлены феномены культуры и религии, причем евангельская церковь замыкает этот ряд, видимо, как явление самое прогрессивное, усвоившее в себе достижения предшественников.
Не только прошлое, но и будущее видится в нерасторжимой связи общекультурных процессов и евангельской духовности. Формулируя «оправдание будущего как богословско-социальную задачу», пастор-пятидесятник Михаил Дубровский замечает: «Оправдать будущее – значит разглядеть в будущем лик Христа, Господа человеческой истории, и, как результат этого прозрения, привнести в это будущее Божью правду. Дать будущему миру такое основание, чтобы он стал более христианским, чем уходящий. В этом состоял богословский и нравственный подвиг Реформации: Лютер, Меланхтон, Буцер, Кальвин и другие положили пророческое основания для мира, в котором мы теперь живем. Богословское переосмысление процессов, происходящих в обществе, фундирование этих изменений в первоосновах христианства и переложение сложнейших мировоззренческих вопросов на простой язык, понятный каждому, – эта работа определила дальнейшее развитие Европы на основе христианского мировоззрения» [Дубровский, 2011: С. 39].
Для христиан-интеллектуалов философское наследие дает не только иллюстративный материал, но и опыт внешней критики, и опыт неожиданной конгениальности, удивляющее чувство общности между Афинами и Иерусалимом. Платонизм, классическая немецкая философия, экзистенциализм, феноменология, философская герменевтика, другология, постмодернизм и притягивают, и отталкивают, как это и бывает в отношениях разных, но близких собеседников.
В постсоветском протестантизме ощущается влияние нескольких философских парадигм – русской религиозной философии (Е. Зайцев, В. Ляху, И. Аленин), западной социальной философии (Д. Мезенцев, А. Зайченко, В. Бачинин), методологической школы Г. Щедровицкого (М. Дубровский, С. Градировский). Влиятельны теолого-философские концепции евангельских мыслителей прошлого века Фрэнсиса Шеффера и Карла Генри. Могут быть интересны философские концепции «христианского консерватизма» Гюнтера Рормозера [Рормозер, 1996] и «христианского плюрализма» Михаэля Велькера [Велькер, 2001]. Интересные сплавы теологии и философии можно найти в работах Р. Соловия, Г. Гололоба, А Пузынина, А. Негрова, Г. Савина. В результате диалогических отношений рождаются авторские концепции – теологическая эстетика Вячеслава Бачинина, «арминианская философия» Геннадия Гололоба, критическая теология постмодерна Романа Соловия, протестантский персонализм И. Подберезского, христианский гуманизм Александра Жибрика, «религия, преодолевающая себя» А. Дубровского, социолингвистика А. Негрова, постлиберальная теория идентичности А. Пузынина.
Свежая историко-богословская монография [Пузынин, 2010] последнего наиболее типична в отношении к философии как близкому соседу и полезному собеседнику даже в прояснении своих внутренних, теолого-церковных вопросов идентичности. А. Пузынин не считает традицию евангельских христиан очевидно наличной и предлагает ее ре-конструировать, что вызывает оправданные ассоциации с теориями «деконструкции» и «социального конструирования реальности»
Вот как автор сам определяет свое понимание проекта реконструкции евангельской традиции: «Реконструировать идентификацию и богословие исторически обусловленной традиции на эпистемологической платформе реалистического англо-американского постмодернизма» [Пузынин, 2010: С. 411]. Оппонируя фундаментализму и христианскому консерватизму, Пузынин констатирует: «Философия и богословие двадцатого столетия ясно продемонстрировали невозможность получения знаний, не обусловленных историческим контекстом и личностным фактором» [Пузынин, 2010: С. 22]. Автор основывает свою методологию реконструкции на подходах А. Макинтайра и Т. Куна, а для проектирования новых богословских позиций использует теолого-философские теории Д. Линдбека, С. Гренца, А. Маграта. Ф. Уотсона, К. Сурина и других, которые в свою очередь опираются на сугубо философские концепции Ч. Пирса, М. Поланьи, Л. Витгенштейна, К. Гирца, Х. Патнэма.
Отводя евангельским христианам место на «ментальной карте» между славянофилами и западниками, Пузынин предлагает разрешать проблемы современного кризиса идентичности, критически используя ресурсы западной евангелической мысли и постлиберализма. «Идеологическая платформа фундаментализма, покоящаяся на внебиблейской рациональности эпохи Просвещения, должна подвергнуться публичному интеллектуальному экзорцизму по причине его, фундаментализма, губительных последствий… Участвуя в публичному диалоге, евангельские христиане должны стремиться к развитию академической исследовательской культуры в духе истинного диалога с участниками из других традиций» [Пузынин, 2010: С. 482].
Итак, теология постсоветских протестантов в условиях номинальной религиозности общества находит собеседников в философской среде, где оказывается больше свободы и разнообразия. Теология, принявшая внутрь себя факт секуляризации и освободившаяся от несвойственного ей насильственного и властного авторитета, становится сродной «секулярной» философии, ведущей свой поиск по ту сторону навязанной системы координат. Теология способна помочь философии выйти на сопредельные территории духа, философия может помочь теологии осмыслить себя в свободном исследовательском дискурсе.
Теолого-философский диалог создает мировоззренческую основу для формирования духовно-интеллектуальной культуры и христианской интеллигенции как ее субъекта; выступает как фактор экуменизма, способ миропонимания, самопонимания, самокритики и самореформирования для христианской теологии. Примечательно, что в подобном ключе видят будущее и протестанты-традиционалисты: «Внутренняя жизнь официальных христианских церквей, очевидно, будет характеризоваться большей открытостью и способностью к диалогу друг с другом и с нехристианскими группами. Агрессивность и ориентация на успех, характерная для второго тысячелетия, сменится большей мягкостью, чувствительностью» [Фундамент, 2006: С. 491].
Забота о смысле требует диалога, бережного собирания и защиты смыслов – разных частей некогда целого. Память об утраченном целом и интуиция его возможного восстановления направляют теологию и философию навстречу друг другу. Теологическая основа для теолого-философского сближения – доктрины сотворения, воплощения, общего откровения, общей благодати. Со стороны философии интенция на со-единение или вос-становление сопровождается чувством неполноты, недостачи, падения. Именно теология в ее собирательной способности может стать основой и осью для интеграции знания, академической и духовной культуры, практической мудрости, церковной и общественной жизни.
Литература
1. Elliott M.R. The current crisis in protestant theological education in the former Soviet Union // Religion in Eastern Europe. – 2010. – V. XXX, 4. – P. 1-22.
2. Smith Ch. The Bible made impossible. Why Biblicism Is Not a Truly Evangelical Reading of Scripture. – Grand Rapids: BragosPress, 2011. – 220 p.
3. Балаклицкий М. Секуляризм и религиозная вера // Богословские размышления. – 2009. — №10. – С. 175-180.
4. Бачинин В.А. Введение в христианскую эстетику. – СПб.: Библия для всех, 2005. – 376 c.
5. Бачищев Ю. О проблеме возрождения христианской духовности российского общества на переломе XX и XXI столетий. – М.: Духовное возрождение, 2007. – С. 33-39.
6. Брауэр Д. Церковь всегда реформирующаяся // Реформация vs Революция. Религиозно-философская тетрадь №2. – М., 2011. – С. 6-13.
7. Велькер М.. Христианство и плюрализм. – М.: Республика, 2001. – 208 с.
8. Генри К. Христианин среди философов / Пер. с англ. Натальи Трауберг. – М.: ANNO DOMINI, 1993. – 96 с.
9. Головин С. Мировоззрение: утраченное измерения благовестия. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – 96 с.
10. Гололоб Г.А. Свобода между рабством и произволом. – СПб.: Библия для всех, 2008. – 432 с.
11. Дубровский М. Оправдание будущего как богословско-социальная задача церкви // Реформация vs Революция. Религиозно-философская тетрадь №2. – М., 2011. – С. 38-47.
12. Жибрик А. Иов. Навстречу с истинным Богом, или назад к утраченной человечности. – Минск: Библейский колледж «Христос для всех народов», 2007. – 242 с.
13. К стратегии развития евангельского движения России. Религиозно-философская тетрадь №1. – М., 2010. – 60 с.
14. Кайпер А. Христианское мировоззрение. Лекции по кальвинизму. – СПб.: Шандал, 2002. – 240 с.
15. Карпунин В.А. Христианство и философия. – СПб. : Библия для всех, 2002. – 368 с.
16. Колаковский Л. Краткая философская энциклопедия // Неприкосновенный запас. – 1999. – № 3 (5). – [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nlobooks.ru.
17. Коциянчич Г. Введение в христианскую философию. – СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2009. – 381 с.
18. Маграт А. Введение в христианское богословие. – Одесса: Богомыслие, 1998. – 480 с.
19. Панич А., Головин С. Логика для верующих и неверующих. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. – 264 c.
20. Подберезский И. Фундаментализм и постмодернизм // Подберезский И. Бог. Вера. Общество. Личность. Мнение российского баптиста. – СПб.: Библия для всех, 2004. – С. 35-43.
21. Подберезский И.В. О гуманизме // Подберезский И.В. Евангельские христиане России о себе и о мире. – М.: ХРЦ «Протестант», 2008. – С. 90-109.
22. Подберезский И.В. О секуляризации // Подберезский И.В. Евангельские христиане России о себе и о мире. – М.: ХРЦ «Протестант», 2008. – С. 67-90.
23. Пузынин А. Традиция евангельских христиан. Изучение самоидентификации и богословия от момента ее зарождения до наших дней. – М.: ББИ, 2010. – 523 c.
24. Пушков Е.Н. Что есть истина? – СПб.: Библия для всех, 2009. – 236 c.
25. Рормозер Г. Кризис либерализма. – М.: ИФРАН, 1996. – 304 с.
26. Рормозер Г., Френкин А. Новый консерватизм: вызов для России. – М.: ИФРАН, 1996. – 240 с.
27. Савин Г.Светский и церковно-религиозный дискурсы: поиск общего языка // Перспективы христианской философии в России. Материалы международного семинара 31 мая 2010 года. – М.: Духовное возрождение, 2010. — С. 132-142.
28. Смит Д. На пути в Эммаус. Надежда во времена неопределенности. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 152 с.
29. Соловий Р. Богословие Появляющейся церкви: постмодернистская эпистемология и интерпретация Писания // Богословские размышления. Евроазиатский журнал богословия. – 2010. – №11. – С. 55-76.
30. Спис О. Релігійно-суспільні та соціокультурні зміни в пізньопротестантських громадах (за результатами експертного опитування) // Українське релігієзнавство. – 2005. — №2. – С. 86-95.
31. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии. – М.: ББИ, 2009. – 151 c.
32. Философия и пустое обольщение // Дни хвалы. Ежедневные библейские чтения. – Минск: Принткорп, 2010. – С. 36.
33. Фундамент. Курс начального богословия / Составитель и ответственный редактор С.В. Санников. – Одесса, 2006. – 542 c.
34. Черенков М.М. Від ізоляціонізму до «входження у світ»: соціально-філософські рефлексіі трансформаційних процесів в українських євангельських церквах // Мультиверсум. – 2008. – №70. – С. 237-247.
35. Шеффер Ф. Чтобы продолжалась жизнь. Взлеты и падения западной мысли и культуры. – Курск: Апологет, 2006. – 230 c.
Про автора
Mykhailo Cherenkov, Doctor of Philosophical Sciences, Professor of Department of Culturology, National Pedagogical Dragomanov University (Kyiv).
Михайло Черенков, доктор філософських наук, професор кафедри культурології Національного педагогічного університету імені М.П Драгоманова (м. Київ)
Анотації
Михайло Черенков. Перспективи теолого-філософського діалогу в пострадянському протестантизмі
У статті доводиться, що теологія пострадянських протестантів в умовах номінальної релігійності суспільства закономірно знаходить співрозмовників саме у філософській спільноті, де виявляється більше свободи на різноманіття. Обгрунтовано тезу про те, що саме теологія в її збірній функції може стати основою інтеграції знання, академічної й духовної культури, філософії й практичної мудрості, церковного та суспільного життя. Згідно авторського підходу, той очевидний факт, що в протестантській теології власна мова обмежена у словнику та застосуванні, не збіднює її, а звільняє заради засвоєння інших мов, мов людської культури й філософії. Теологія розглядається, передусім, як частина і функція церкви, але також як інтелектуальна і духовна культура, звідки висновується, що теологія, яка хоче стати більше ніж теологією церковною, хоче стати свідченням для світу та засобом його переображення, має бути і теологією філософською. Акцентується проблема подолання фундаменталізму, яке стає можливим не на зворотньому шляху від теолого-філософської взаємодії культур до внутрішньої субкультури, а на шляху вперед – через теологічне засвоєння філософської культури.
Михаил Черенков. Перспективы теолого-философского диалога в постсоветском протестантизме
В статье показано, что теология постсоветских протестантов в условиях номинальной религиозности общества закономерно находит собеседников в философской среде, где оказывается больше свободы и разнообразия. Обосновывается тезис, что именно теология в ее собирательной способности может стать основой и осью для интеграции знания, академической и духовной культуры, философии и практической мудрости, церковной и общественной жизни. Согласно авторскому подходу, тот очевидный факт, что в протестантской теологии собственный язык ограничен в словаре и применении, не обедняет ее, а освобождает для освоения других языков, языков человеческой культуры и философии. Теология рассматривается, прежде всего, как часть церкви, ее служение, собственная функция, но также как интеллектуальная и духовная культура, поэтому делается вывод, что если теология хочет стать большим, чем теологий для церкви, стать свидетельством миру и способом преображения его образа, она должна быть и философской теологией. Акцентируется проблема преодоления фундаментализма, которое становится возможным не путем движения вспять – от теолого-философского взаимодействия культур к внутренней субкультуре, а по пути вперед — через теологическое усвоение философской культуры
Mykhailo Cherenkov. Prospects of Theological-Philosophical Dialogue in Post-Soviet Protestantism
The article shows that the theology of post-Soviet Protestants in a nominally religious society finds dialogue partners in the philosophical sphere, where, it turns out, there is more freedom and diversity. The article defends its thesis that theology, with its aggregative capabilities, can become the foundation and axis for the integration of knowledge, academic and spiritual culture, practical wisdom, and church and community life. To take a literary approach, the obvious fact that Protestant theology’s language is limited in vocabulary and usage does not impoverish it, but frees it to make use of other languages, the languages of culture and philosophy. Theology is examined, first and foremost, as part of the Church, its ministry, its function, but also as intellectual and spiritual culture. Therefore we can draw the conclusion that if theology wants to become more than theology for the Church, if it wants to become a witness to the world and a means of transforming its image, it must also be a philosophical theology. It emphasizes the problem of overcoming fundamentalism, which can be accomplished not through moving backwards — from a theological-philosophical union of cultures to inner-church subcultures, but by moving forwards — through a theological assimilation of philosophical culture.
Впервые опубликовано на religion.in.ua