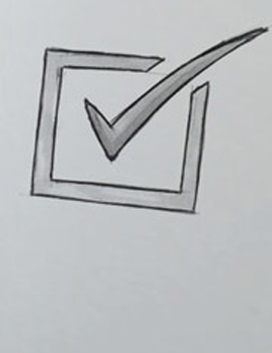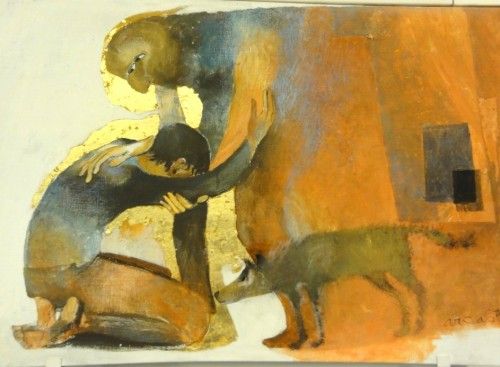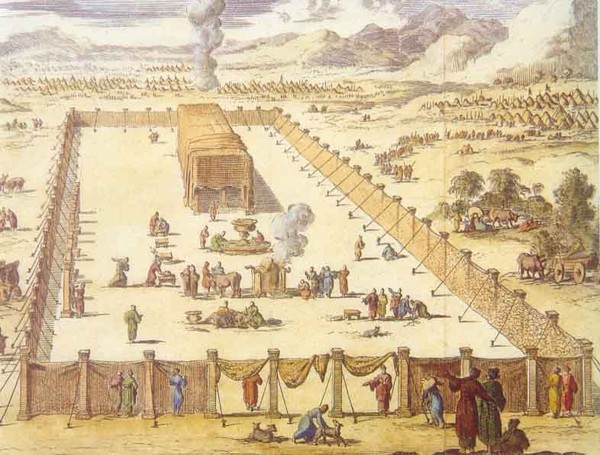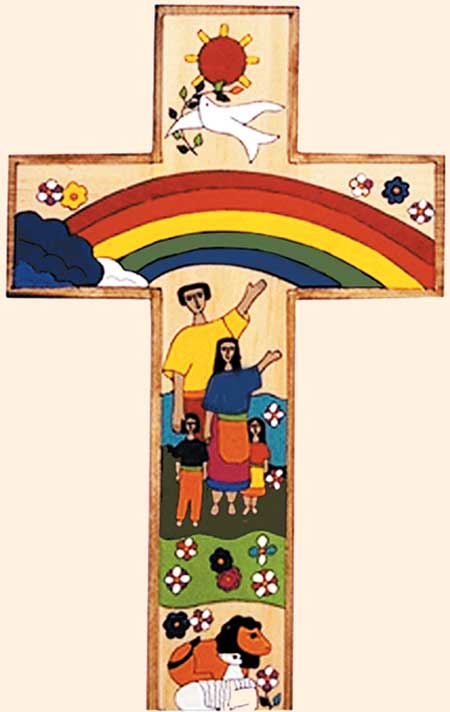![Акценты для повестки дня]()
Я очень рад, что лидеры евангельских церквей начали работать над собственной повесткой дня для церкви и общества. Но необъятное объять нельзя, поэтому все дело здесь не в трудолюбии и усердии, а в акцентах, в интуитивном, пророческом видении и воображении, в которых открываются перспективные направления и задачи. Мы не ищем черную кошку в темной комнате, мы можем быть уверенны в том, что Бог открывает будущее в достаточной мере, и эти контуры будущего проясняются, как правило, не во сне или неге, но в соборной работе.
О чем стоит думать сегодня в первую очередь? Где есть точки роста, в которых прорастает иное, новое? Где мы можем приложиться, чтобы изменить направление движения? Какие вопросы нужно вписать в повестку дня?
Требование и поиск новизны. В мире постоянных перемен удивить новизной все труднее, действительно новое ценится все больше и встречается все реже. Церковь, желающая обладать достойным местом в будущем, должна стать источником новизны. И здесь есть несколько вопросов.
— Евангелие для креативного класса. Стоит думать, как выйти из рабоче-крестьянского гетто и приобрести расположение наиболее динамичных социальных групп.
— Мотивация для карьеры. Христианам стоит видеть в карьере не столько повышение уровня благосостояния, но и расширение возможностей влияния и служения людям.
— Социальные сети. Сегодня богатство определяется не тем, сколько у тебя денег в кармане, но тем, насколько широк круг людей, на которых ты можешь оказывать влияние.
— Запрос на служащих и служивых. В обществе формируется устойчивых запрос на тех, кто готов служить – как монах, священник, рыцарь или дворянин. Это может быть и чиновник, и учитель, и политик, но с внутренней установкой на служение обществу Христа ради, с устойчивой мотивацией и без личного корыстного интереса.
— Новые лица в церкви и мире. Возникает новый мир и каждая новая эпоха требует своих лидеров. Увы, скамейка запасных пока очень короткая.
— Прорывные идеи. Сегодня, как никогда, идеи движут историей. Визионеры ценнее политиков. Харизматики, изобретатели, стратеги, реформаторы – все, кто способны на создание нового, — скоро будут на вес золота. Но их могут опередить революционеры.

Богословие социальных перемен. Между характером и скоростью общественных трансформаций и инертностью церкви – большое несоответствие. Нужно богословие, которое смогло бы пояснить и оправдать происходящие перемены, поместив их в свою собственную парадигму.
С этим связаны темы преодоления фундаментализма и конфессионализма, образовательной революции в церкви (здесь элементарная задача — остаться или стать вновь народом Книги, удержать и развить культуру чтения и понимания, мышления и творчества), актуализации Писания (попытка ответить на вопросы, что Библия говорит о нашем времени и что Бог делает сегодня?). Невелика задача – показывать и рассказывать о том, как все плохо. Гораздо достойнее другая задача – показать или даже предсказать, как в этих трагических, непонятных, разноплановых процессах проявляется растущее Божье Царство, т.е. Божественный порядок из хаоса.
Продолжение Реформации. Как известно, для тех, кто пережил на себе Реформацию, Реформация должна продолжаться. Чтобы оставаться собой, ее нужно продолжать. На сегодня импульс лютеровской Реформации исчерпан, что будет дальше? Откуда будет исходить новый импульс? Отеческое богословие мы получили от бывших философов, Реформацию от университетских профессоров, а кто станет инициатором новой волны перемен? Будет ли Украина особенным местом для обновленного христианства и преображенного мира? Способны ли мы преодолеть свою провинциальность, местечковость, самодовольство (ну и что, если богословия нет, зато у нас песни хорошие и сало вкусное)?
Возрождение общинности и создание альтернативных социальных моделей. В обществе назревает паралич общинных структур, социальных связей. Государству не на что опираться, нет ни партий, ни колхозов, ни профсоюзов. Мобилизационный потенциал политических и социальных структур почти исчерпан. В этой ситуации нового средневековья Церковь может взять на себя инициативу и структурировать общество соответственно своему видению, как минимум организовать локальные сообщества и жизненные миры.
Внешние люди задаются вопросами: где есть работающие или перспективные модели коллективного творчества, общинного взаимодействия? Церковь могла бы научить этому, но для начала она сама должна вспомнить, как это работало или может работать.
Церковные люди должны также спросить себя. Как распечатать потенциал общин? Как оживить общинную жизнь, как вернуть общинность церкви?
Как наладить обратную связь, взаимоскрепляющие связи?
Я должен признать, что нигде больше не встречал такой сильной общинной жизни, такого уровня посвященности и консолидации, как в движении отделенных баптистов советского периода. Но они закрылись и законсервировались. А можно ли и как именно можно совместить дух общинности, жертвенной посвященности, энтузиазма и нонконформизма с открытостью миру и ответственностью за него?

На мой взгляд, названные темы новизны-обновления, управления переменами, реформации религиозных институтов и альтернативных социальных форм на ближайшие годы будут ключевыми. И все они потребуют мобилизации христианских интеллектуалов самых разных традиций, а также их полноценного взаимодействия с прогрессивными общественными лидерами. В конце концов, этот интерес взаимный – как сблизить церкви и общество, объединить их потенциалы в совместной попытке понять современность, избежать грозящих катастроф, скорректировать развитие мира, вместе побороться и потрудиться ради лучшего будущего.