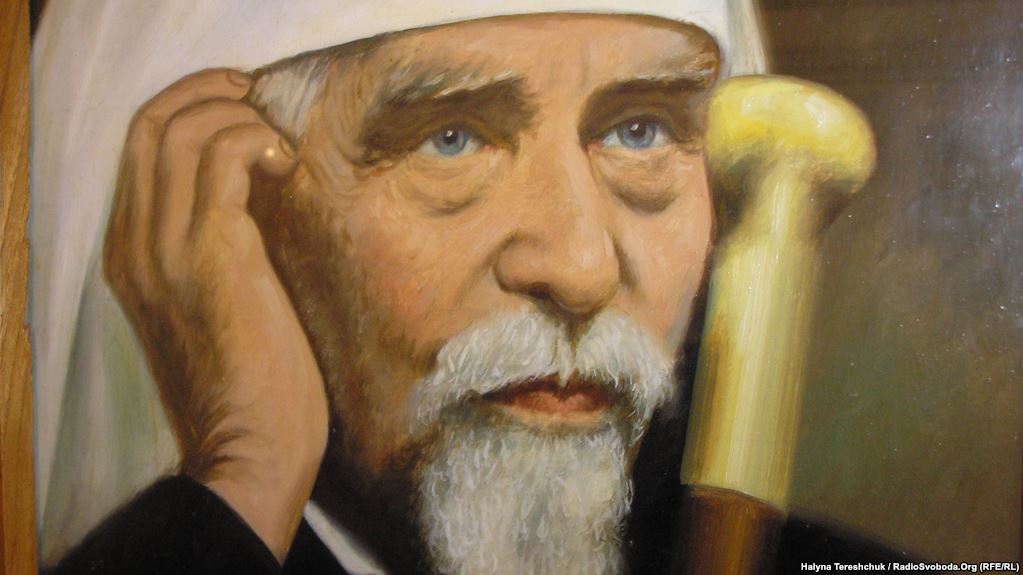«Вера и разум» глазами протестанта
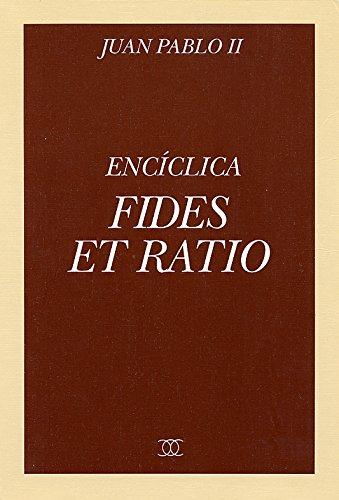
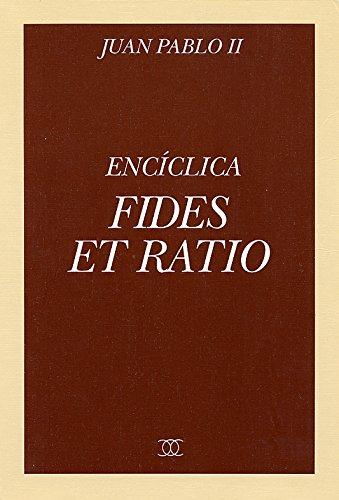
«Вера и разум» (Fides
et ratio) — важный документ для всей
Церкви, единой в многообразии своих конфессиональных проявлений. Более того,
это содержательный и вдохновляющий манифест для мирян, для тех христианских
интеллектуалов, чье призвание реализуется по ту сторону церковных стен, в самой
гуще общественной жизни.
обусловлено двумя влияниями — моим философским образованием и протестантской
богословской традицией. Соотнесение с ними создает интересную перекличку, в
которой ближайшими собеседниками выступают баптист Карл Генри и реформат Алвин
Плантинга. В этой компании Иоанн Павел II не выглядит чужим и встречается с пониманием. При
этом конфессиональная и культурная разница обеспечивает богатую неожиданными
вопросами почву для дискуссии.
вместе с докладом «Совет христианским философам» Алвина Плантинги и циклом резерфордовских
лекций Карла Генри, собранных под названием «Христиан среди философов» Генри.
При том, что я не собираюсь сравнивать их позиции, интересно, как при разнице
настроений и подходов, все они оказались едиными (по крайней мере в моей личной
жизненной истории) в своем призыве к «христианским философам» примирить и
взаимно усилить веру и разум.
Как и следовало ожидать, Плантинга ведет себя более дерзко, предлагая
христианским философам начинать со своих собственных оснований, не
подстраиваясь под философское сообщество: «Выказывать, во-первых, больше
независимости и автономии… больше уверенности в себе, решительности или отваги»
(2, 491). Понимая философию как систематизацию, развитие и углубление
дофилософских убеждений, он призывает христиан вести себя уверенно, ведь «Мы
имеем полное право на свои дофилософские взгляды» (2, 491).
сообщество не должно думать о себе
как участнике этой общей попытки определить вероятность или философскую
возможность веры в Бога. Христианский философ вполне обоснованно исходит из факта существования Бога» (2,
478).
перспективу, которая исходит не только из Бога (как обратная перспектива), но и
реальности мира (перспектива прямая), не только из дерзновенного дофилософского
опыта веры, но также из философствующего разума с его сомнениями.
сетование Карла Генри, лидера евангельских христиан США и основателя влиятельного
журнала «Христианство сегодня», о том, что «христианскую теологию просто
затопила нелюбовь к разуму» (1, 19). И это не только о Рудольфе Бультмане, но и
о Карле Барте (!). «Философам очень нравится, что Бог у него – выше логики, и
не подчинен закону непротиворечивости. На их взгляд, Барт, сам того не желая,
поддерживает мысль о том, что объективно существующий Бог – только побочный
продукт человеческого воображения» (1, 19), — жалуется Генри, и тут же спешит
отмежеваться от евангельских фидеистов: «Такие воззрения не надо смешивать с
евангельской ортодоксией. Теисты, опирающиеся на Евангелие, считают
неприемлемыми любой иррационализм, любые утверждения о том, будто именно
нелепость, внеразумность делают веру достоверной, а послушание, духовная
дисциплина требуют «рывка веры», не зависящего от рациональных соображений. Кто
утверждает, что в установлении исходных истин вера предшествует спекулятивному
мышлению, тот не обязан отрицать разум и факты, как не имеющие отношения к
истинной вере» (1, 23).
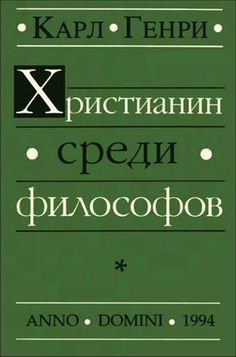
Плантинги, Генри не приемлет аналитический метод, он тяготеет к метафизике и
жалуется, что «Слово «Бог» лишили метафизического значения, и нет объективных
критериев, чтобы отличить добро от зла, ложь – от истины» (1, 19). У него значительно больше оптимизма по поводу
рациональной аргументации веры и преемственности философской традиции. Здесь он
весьма близок в позиции папы, который сетует на «неверие в способности разума,
характерное для большинства концепций современной философии, которая
отказывается от метафизических размышлений над извечными вопросами человека и
сосредоточивается на частных и узких проблемах, иногда чисто формальных» (3).
Понтифик призывает «философов, как христианских, так и нехристианских, поверить
в способности человеческого разума» (3). Для него «вера становится защитницей
философии». К слову сказать, для протестантов такая фраза была бы немыслимой,
для них философия – лишь один из языков, или инструментов веры.
вере и разуме протестанты – инструменталисты, и куда менее внимательны к
истории и культуре. Они сфокусированы главным образом на эпистемологических
вопросах, в то время как для Иоанна Павла II Бог открывает Себя не столько в спекулятивных
рассуждениях, сколько в исторических события: «История и судьбы народа — это действительность,
которую следует постигать, анализировать и оценивать с помощью средств,
имеющихся в распоряжении разума, но так, чтобы вера не была отстранена от этого
процесса. Вера необходима не для того, чтобы лишить разум автономии или
ограничить его поле деятельности, но лишь для того, чтобы объяснить человеку,
что в этих судьбах присутствует и действует Бог Израиля. Итак, подлинное
познание мира и исторических событий невозможно, если отсутствует вера в Бога,
Который действует в них» (3). Так «История становится той сферой, в которой мы
можем видеть деяния Бога для людей» (3). Причем именно «Вера обостряет
внутреннее зрение и просвещает разум, позволяя ему заметить в веренице событий
присутствие Провидения» (3).
образом, открывая незаметный доныне порядок. Такая «настраивающая» роль веры
касается не только области истории, но всех способностей и сфер познания. Уверен,
что Плантинге, понравился бы тезис папы о том, что разум должен не только
направляться верой, но и функционировать должным образом: «Разум должен
придерживаться некоторых основных принципов… Если человек с помощью своего интеллекта
не может распознать в Боге Творца всего сущего, то причина кроется не столько в
отсутствии необходимых средств, сколько в препятствиях, созданных его свободной
волей и грехами» (3).
неспособности разума, сколько в упорстве человеческой воли, которая должна
смириться перед тайной и принять истину как Божий дар. «Откровение вносит в
историю человечества некую отправную точку, которой человек не может
пренебрегать, если хочет постичь тайну своего бытия; с другой стороны, это
познание неизменно возвращается к тайне Бога, которую разум не в состоянии до
конца понять, а может лишь принять ее с верою» (3).

этим тезисом: для активации своих познавательных способностей человек должен просто принять христианское откровение
как отправную точку для всех дальнейших интеллектуальных поисков.
скажут, что папа переоценивает страсть людей к истине, особенно в нашем мире
постправды. Трудно согласиться с его оптимистической оценкой человека, будто «Никто
не может равнодушно относиться к тому, истинны его знания или нет”.
живопись, скульптура, архитектура и другие плоды его творческого интеллекта
стали средствами выражения неудовлетворенности, побуждающей человека к
неустанному поиску” (3). Спустя двадцать
лет после выходы энциклики в свет, эта страсть к поиску истины выглядит все
менее очевидной.
время как протестанты отстаивают этику своих сообществ, папа – гораздо больший
оптимист по поводу “всеобщей этики”: “Философия, в которой сияет хотя бы только
часть истины Христа — единственного окончательного Разрешителя проблем человека
, — становится мощной опорой подлинной и одновременно всеобщей этики, в которой
сегодня так нуждается человечество” (3).
основывается на метафизических и метаисторических истинах. Здесь метафизика
выступает против аналитической традиции. Для папы, «Богословие, лишенное
метафизического измерения, не смогло бы выйти за рамки анализа религиозного
опыта, а осознание веры не смогло бы точно выразить универсальную и трансцендентную
ценность богооткровенной истины. Необходимость авторитета метафизики станет
более очевидной, если мы обратим внимание на развитие герменевтических наук и
различных форм языкового анализа в настоящее время. Результаты этих поисков
могут оказаться полезными для понимания веры, так как они раскрывают структуру
нашего мышления и речи, а также смысл, заключенный в языке. Однако отдельные
представители этих наук сводят поиски к одному вопросу, а именно, каким образом
человек постигает и отображает действительность, и не пытаются установить, в
состоянии ли разум раскрыть ее сущность. Разве такое отношение не является еще
одним проявлением современного кризиса веры в способности разума?» (3).
частным случаем более фундаментального вопроса – отношения к традиции.
Очевидно, что для протестантов эта тема чем более болезненна, тем менее
обсуждаема. Но для папы «в нынешней ситуации особенно важно, чтобы отдельные
философы смогли пропагандировать заново открытую решающую роль традиции в
формировании надлежащей формы познания. Ибо следование традиции — это не только
воспоминание о прошлом; в большей степени оно выражает признание ценности
культурного наследия, принадлежащего всем людям. Можно даже сказать, что это мы
принадлежим традиции и не в праве ею самовольно распоряжаться» (3).
является не просто вера как откровение, но откровение
веры, данное и доступное в рамках традиции. Папа защищает традицию не
только от секулярной агрессии, но и от протестантского «фидеизма», «который не
признает, что рациональные знания и философские размышления обусловливают
понимание веры, и даже саму возможность веры в Бога. Распространенным проявлением
фидеистических тенденций в наше время является «библеизм», который хотел бы
сделать чтение Священного Писания и его экзегезу единственной достоверной
отправной точкой» (3).
– ключевой момент в дискуссии протестантов и католиков. Для первых истина
открывается через Слово Божье и дар веры. Для вторых Откровением является вся
история в ее преемственности, вся жизнь во всех противоречих. Потому
протестантам сложно согласиться, что человек – это “тот, кто ищет истину”; что
возможна “всеобщая этика”; что ““необходимо философствовать с Марией”; а “глубине
веры должно соответствовать дерзновение разума”.
Плантинги и Генри охотно бы присоединились к призыву Иоанна Павла II сблизить и
примирить веру и разум в послушании Слову Божьему и благовестии миру. Этот
призыв обращен не только к
христианским философам, но и к богословам Церкви: “Взываю к философам и
преподавателям философии, чтобы они, следуя всегда актуальной философской
традиции, имели мужество вернуть философской мысли аспект подлинной мудрости и
истины, в том числе метафизической. Пусть они будут готовы принять требования,
которые выдвигает слово Божие, и постараются ответить на них своими
размышлениями и аргументацией. Я также призываю тех, кто отвечает за подготовку
священников, как академическую, так и пастырскую, прежде всего, заботиться о
философской подготовке тех, кто будет благовествовать Евангелие современному
человеку, а в первую очередь — тех, кто собирается посвятить себя изучению и
преподаванию богословия” (3).
этот призыв будет услышан и принят Церковью в единстве и разнообразии ее
внутренних течений, если вера
и разум наших традиций смогут раскрыться
и укрепить друг друга, мы перестанем говорить о постхристианстве и постправде,
мы снова будет говорить об истине, любви и красоте нашей веры. Более того, мы
сможем явить миру истину, любовь и красоту нашей веры в том, как мы слушаем
друг друга и учимся друг у друга. Единству веры должна соответствовать
соборность разума. Вот почему богословски-философские вопросы взаимоотношений
веры и разума как таковых неизбежно оборачиваются практически-экклезиальным
вопросом о возможной гармонии веры и разума, данных и понятых внутри разных
традиций эсхатологически единой, но исторически разделенной Церкви. Примиряя
веру и разум внутри наших отдельных традиций, мы неизбежно выходим на новый
уровень – примирения самих традиций в обновленном единстве веры и согласии
обновленного разума.
Генри,
Карл. Христианин среди философов. – М.: Anno Domini, 1994.
Плантинга, Алвин. Совет христианским философам
// Аналитический теист. Антология
Алвина Плантинги. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – С. 467-495.
0
0
1
1907
10870
ASR
90
25
12752
14.0
Normal
0
false
false
false
EN-US
JA
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:»Table Normal»;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:»»;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
Fides et ratio. Окружное послание Святейшего
Отца Иоанна Павла II епископам Католической Церкви о взаимоотношении между
верой и разумом. 1998.09.14