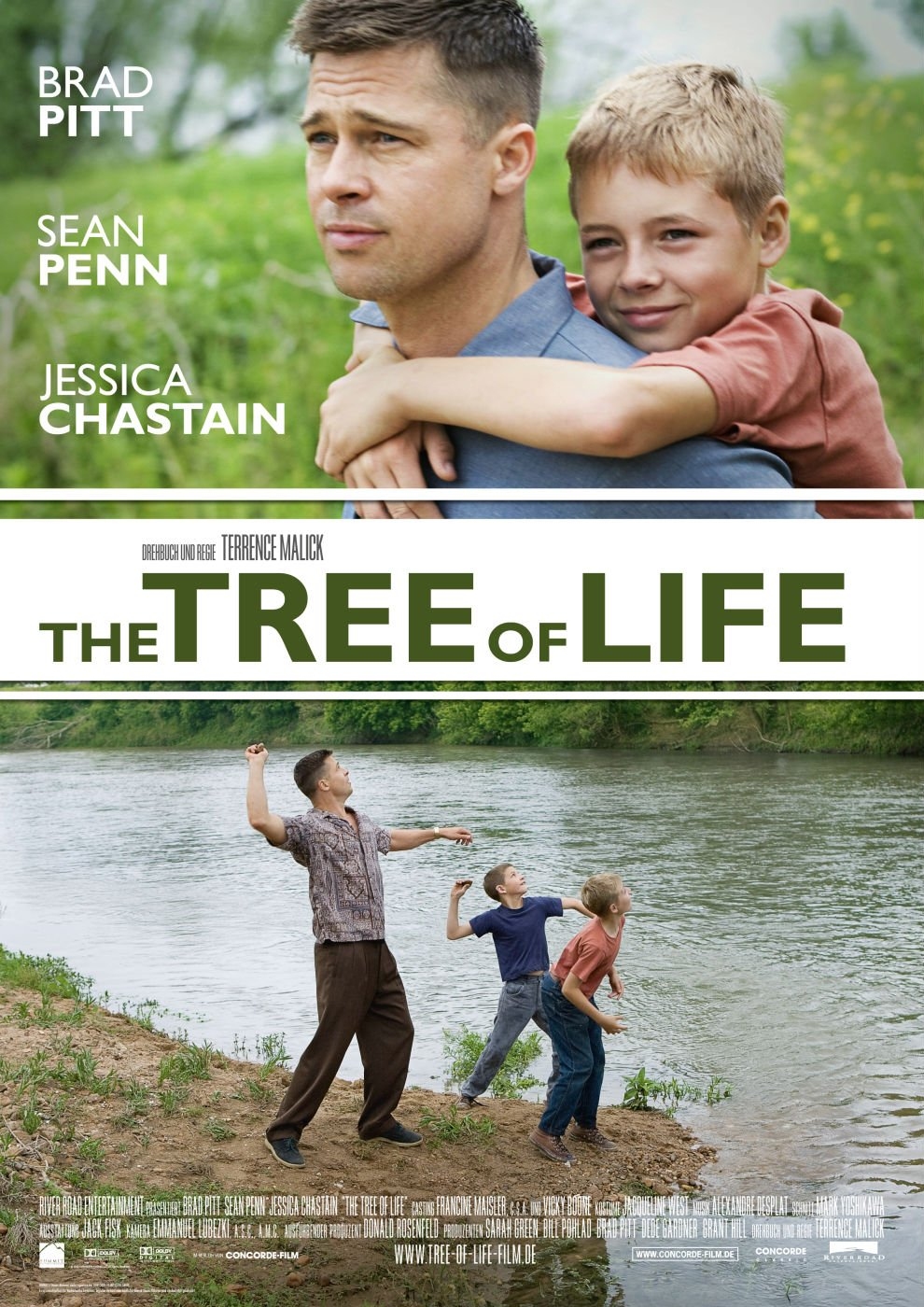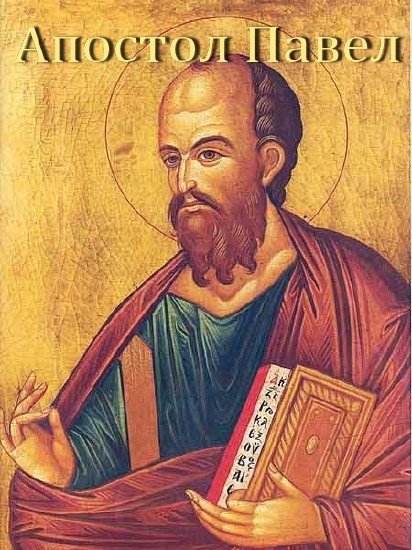Христианство в нестабильном обществе. Чего ожидать?


Социальные волнения охватывают весь мир. Демократия по-евроатлантически и свободная от морали рыночная экономика переживают глубочайший кризис и теряют сторонников. Исламские революции усиливают хаос на внешних границах западной цивилизации. Неототалитарные и авторитарные режимы в постсоветском пространстве также не могут быть достойной альтернативой «загнивающей» демократии и капитализму. Чего можно ожидать от христианства не только в отношении к этим политическим и социально-экономическим кризисам, но и к более глубинным цивилизационным сдвигам?
Христианство в постхристианском обществе.
О способе присутствия и возможностях влияния
Вот уже третье тысячелетие христианство не перестает удивлять внешних наблюдателей своими способностями не только отвечать ожиданиям людей, но также оспаривать и превышать их. Христианство всегда остается другим по отношению к общественным определениями и функциям, в которые его стараются заключить.
До недавнего времени наблюдатели предпочитали замечать другое – способность христианства становиться своим для духа времени – духа феодализма или капитализма, монархизма и демократии. Сегодня же на первый план выходит интерес к христианству в его собственной, внутренней логике, не всегда переводимой на язык современной ему эпохи, господствующей экономической или политической культуры.
За две тысячи жизни церкви в обществе в полной мере проявились риски и последствия этой связи. Сливаясь с действующим режимом политики и экономики, христианство получает выгоду текущего момента, но в долгосрочной перспективе эта связь оказывается опасной.
Поддерживая реакционные формы общественной жизни, церковь проигрывает вместе с ними, оказываясь противницей нового. Даже спеша стать современной, т.е. идти в ногу со временем, с днем сегодняшним, с современностью уходящей, церковь оказывается противницей дня завтрашнего, современности наступающей, грядущей.
Оказалось, что христианство как социальный институт связано с другими институтами обратной связью. Уходя в прошлое, эти институты увлекают за собой и церковь. Всем известно о христианском влиянии на формирование западной цивилизации, менее известно о том, как «закат Европы» влияет на кризис современного христианства. Стать частью – значит не только дать жизнь периоду «от рождества Христова», «средневековья» или «нового времени», но также пережить все кризисы и смерть этих эпох.
Всегда возможны новые формы присутствия и новые способы влияния, более соразмерные духу времени. У христианства есть для этого значительный социальный потенциал, оно превосходит любую эпоху. Вопрос в другом – не в способностях христианства (они всегда есть), а в его свободе для масштабного исторического творчества. Вопрос в том, как освободить христианство для нового социально-экономического, политического и культурного творчества из плена гибнущей цивилизации (пост)модерна; как спасти само христианство из удушающей связи с прошлой эпохой, чтобы оно могло спасти и обновить мир? Будучи частью современного мира, христианство должно оставаться от него свободным, чтобы выразиться в новой эпохе с новой силой и в новых формах.
Очевидно, что новые формы не будут соответствовать привычным ожиданиям уходящего общества, поскольку они новые; новые формы христианского социального влияния будут ориентированы на грядущее общество. В этом смысле они не на кого не рассчитаны, не на что не отвечают, они сами формируют общество, в котором проявятся, они этому обществу предшествуют. Лишь в этом смысле можно говорить о формах «новых», которые не отталкиваются от наличной ситуации, но проектируют ее.
В разговоре о «новых» формах социально-экономического и политического влияния христианства всегда удерживается этот фактор будущего, с которым они соотносятся – формы, которых еще не было, которые отличаются от присутствующих здесь и сейчас. Но, противопоставляя это будущее как «еще не виданное и не известное» уже «проходящему образу мира» и отработанным формам прошлого, этот разговор продолжать сложно, потому что если между этими модусами нет связи, нет истории как их единства, и через разрыв ни перепрыгнуть, ни «глазочком заглянуть в грядущий век».
Современное христианство устало от прошлого, от растущей тяжести истории. Еще больше усталости – от попыток найти в «истории, где было все» ответы на злободневные вопросы текущего времени. Ответы не находятся – то ли их найти нельзя (слишком много всего в истории, и подобрать нужное — сложно), то ли их найти нельзя (в истории нет ответов, так как тогда не было таких вопросов). От этой пущей усталости приходит тоска по будущему, жажда обновления. Но образ будущего и образ христианства в этом будущем не приходят с неба, не даются в готовом и неожиданном виде, но уже и всегда присутствуют в истории как возможность, ждущая своей актуализации.
История – не столько череда переходов от устаревающих образов к новым и новым, не столько последовательность или хронология инноваций, сколько универсальный набор известных возможностей. От христианских мыслителей, занятых темой будущего, требуется не изобретение нового, но понимание времени и соответствующих ему возможностей, а также творческий и дерзновенный труд контекстуализации уже известного в еще грядущем.
В социальном учении церкви есть то, что однажды и навсегда стало основой ее позиции. Свобода и достоинство личности, равенство всех перед Богом, сострадание и солидарность с другими – универсальные и базовые ценности христианского социального учения. Из них следуют истины второго, более широкого круга – права человека, приоритет общего блага, частная собственность, рациональное устройство общественной жизни, десакрализация власти, отделение церкви от государства, поощрение активизма и предприимчивости.
Сегодня многим кажется, что с кризисом западной цивилизации все это уходит в прошлое и время требует «нового средневековья» с монархизмом, аристократией, новым сословным делением, приоритетом коллективных форм, сильной властью и ограниченной конкуренцией, ограниченной свободой и общей идеологией.
Если мыслить историю как последовательность переходов, то вызовы современности, связанные с «пределами роста» рынка, демократии, свободы, индивидуализма, плюрализма и проч. вполне можно называть возвращением к средневековью. Если же представить историю как набор уже известных возможностей, то вместо рискованного перехода вперед в прошлое или назад в будущее, можно предложить новую мировоззренческую конфигурацию и до-конструирование социальной реальности недостающими элементами.
Не отменяя явных достижений демократии и рынка, основанных на индивидуалистических ценностях личной свободы и ответственности, можно дополнить их практикой общинной жизни, идеалами служения, христианским универсализмом, этикой «ближнего».
Наблюдая за тем, как обессмысливается жизнь современного человека при всем богатстве достижений цивилизации, Бенедикт XVI призывает вспомнить о том, что внутри цивилизации, пусть даже основанной на христианской духовной культуре, не обретается, что нисходит свыше – о любви [1]. Видный православный богослов Иоанн Зизиулас также подчеркивает альтернативный, метаисторический характер христианского взгляда на общественные вызовы: «Православное богословие исходит не из своих исторических форм, а значит, и не стоит перед необходимостью защищать их. Оно концентрируется скорее на человеке как образе Божьем – в каких бы исторических обстоятельствах он ни находился – и на служении человеку, проецируя перед ним эсхатологическое видение, в соответствии с которым человек призван привести свою жизнь. Именно это создавало православное богословие в первые столетия, продолжало делать в период оттоманской оккупации; это сохранило православие, когда оно было лишено возможности влияния на общественные процессы во время коммунизма. Во всех этих случаях ответом православного богословия были литургическая жизнь и монашество» [2].
Итак, католическая теология свою задачу в отношении к обществу видит, прежде всего, в этической перспективе. К этому склоняется и современная православная мысль. «Цивилизация любви» Бенедикта XVI и «этика после Зизиуласа» представляют собой не образы нового общества, а скорее этико-богословские поправки и критические замечания к тому, что уже есть. Если «протестантская этика» была связана с пафосом «нового времени», то церкви, умудренные опытом истории, этого пафоса ныне остерегаются. Идея «русского мира» как православной империи остается при этом далеко в стороне, в богословском и общехристианском плане остается явно маргинальной.
Протестантский консерватизм, поддерживающий европо- или американоцентричный экономический и политический порядок, также подвергается внутренней переоценке. Новые голоса в среде протестантов звучат все более вызывающе: «Мы можем жить в лучшем из Вавилонов мира, но это все равно Вавилон, из которого мы призваны выйти… Мы верны не торжествующему орлу (который, по иронии судьбы, был символом власти не только США, но и Римской империи), но закланному Агнцу» [3].
Очевидно, что привычный образ мира, подпорками которого веками было христианство, рассыпается на глазах. Более нельзя ожидать всеобщей христианизации, христианской политики, справедливого рынка, массового спроса на трудновыполнимую христианскую этику.
Чего можно ожидать от христианства в его социально-экономических и политических проекциях в ближайшие годы? Прежде всего, осмысления собственной инаковости, специфичности, которая избыточна, то есть остается заметной, задевающей, вызывающей, тогда как «типичное» христианство в глазах мира привычно схватывается в узнаваемых формах и плотно срастается с ними.
Вот несколько наиболее значимых тенденций, способных стать факторами опознания искомой специфичности уже завтра: возрождение общинности в новых формах, неподвластных общественному порядку; рассогласование христианства и политики, конфликт этих двух царств; дистанцирование церквей от возникающего глобального экономического порядка; напряжение между личностным характером церковных связей и технико-технологическим унифицирующим порядком.
В этих разделениях и противостояниях христианство открывается миру как близкое и вроде бы знакомое, но также как неожиданно странное, другое, из ряда вон выходящее, а не тот же ряд длящее. Христианство еще способно удивить противоречиями, вкладываемыми внутрь тотализирующего порядка вещей, вызывающими неудобство, режущими своей вертикальной перспективой.
В политике, закрепляющей неравенство в положении людей и распределении прав, христианство требует введения иных, неполитических категорий общего блага, любви к врагам, братской солидарности, равенства перед Богом. В экономике, строящейся на несправедливости, ассиметричности, диспропорции, христианская социальная позиция открывает возможности служения богатых бедным, безвозмездной помощи бедных еще более бедным, довольства и благодарности за скромный достаток.
Надо признать, что встроившись в структуры власти политической и экономической, христианская церковь не придала им христианскости, напротив, она утратила право и силу независимого взгляда, помощи со стороны, поскольку была уже не в стороне, а внутри. Сегодня приходит все более ясное осознание собственной непринадлежности миру. В этом смысле факт постхристианскости и нехристианскости современного мира приводит христиан в чувство. Christendom оказался соблазном – не дьявольским, а собственно христианским, но все же соблазном. Теперь, когда христианство оказалось выставленным за дверь, можно четче видеть несоответствия, понимать и выражать несогласие.
Раньше христианство предлагало христианский мир, христианскую культуру, христианские партии, христианскую социально-экономическую политику. Сегодня все, что может сделать христианин – открыть скрытое измерение реальности, показать другим не всегда видимые перспективы, благодаря которым наличный порядок может преображаться в соответствии с евангельскими принципами и ценностями.
Если раньше христиане предлагали свой эксклюзивный проект обустройства общественной жизни, то теперь они озадачены тем, как свою специфичность соединить с фактом усиливающейся дехристианизации мира, как найти такое место внутри постхристианского мира, в котором скромность и ограниченность сочетались бы с новыми возможностями христианского влияния.
Такое положение влиятельного меньшинства сближало бы христиан нашего времени с первыми христианами, соединяло бы начало и конец христианской истории в образе малочисленной, бедной, скромной, но радостной и активной общины.
По-сути речь идет о новом христианском универсализме, способном охватить все нации, партии и классы. В первом веке христианство оказалось альтернативным способом социальной организации, что не могло не беспокоить имперскую власть. Сегодня на фоне глобальной экономики и транснациональных империй также есть скрытый спрос на другие формы единства. Христианская община, жизнь в любви вокруг Христа, является реальной альтернативой, доказавшей свою жизнеспособность за двадцать веков христианства.
Уже сама возможность обновленного христианского универсализма приводит к десакрализации экономики и политики, их переосмыслению в свете естественных, дополитических связей, а также связей духовных, сверхъестественных.
Христианство сберегает традиционные и более крепкие формы единства, община и семья — более живые, непосредственно личные связи, альтернативные политико-экономическим делениям и ситуативным объединениям.
В свете метафор семьи и общины становится возможным восстановление смыслов экономики как домашнего хозяйства, где обязательны честность, ответственность, уступки. Здесь экономика дара, отдачи, жертвы приходит не смену экономике обмена, эксплуатации, расчета.
Становится возможной и реабилитация политики как искусства самоуправления городской общины, как реальных отношений вместо манипуляций отношениями. Политика не исчезает, но она связывает живых людей, реализуется под их пристальными взглядами, а не скрывается за плакатами идеологических прикрытий чьих-то частных интересов. Заниматься политикой значит учиться жить вместе, а не ходить походами друг на друга. Конечно, христиане не могут свысока учить такой политике, они должны ей учиться, честно признаваясь в исторических неудачах.
Будет величайшей ошибкой строить новые и новые проекты христианского общества. Такое строительство будет напоминать о Вавилонской башне, Царство же Божье не придет приметным образом, а, значит, будет похоже на закваску, квасящую все тесто, или на всепроникающей свет.
В конце концов, мир стал постхристианским потому, что уже был (почти) христианским, уже испытал прелести христианских социально-политических и экономических экспериментов. Т.е. беда не в том, что христианского влияния было мало, его было достаточно много, но характер этого влияния представляется противоречивым, а результаты сомнительными.
Достигнув высочайших успехов в образе глобальной цивилизации, распространив демократию и рынок «даже до края земли», отпраздновав «конец истории», христиане пережили глубочайшее разочарование в себе и месть со стороны колонизированных и христианизированных других.
Неудобный факт множественности и нехристианскости мира делает невозможным эксклюзивистские проекты сильных христианских влияний, когда огнем и мечем народы кресту покорятся. Слабая, мягкая сила открывает более широкие возможности влияний через альтернативные духовно-социальные связи и евангельско-неотмирные модели поведения.
Перспективы христианского влияния на мир связаны с духовно-содержательными, а не видимо-социальными измерениями жизни. И в экономике, и в политике обнаруживается глубина, уводящая к вопросам духовным, к фигурам ближнего и Бога, к необходимости невыгодной и сложной любви. По-настоящему эффективными оказываются не экономические и политические инновации, а уже известные «золотые» евангельские правила, забывчивостью на которые страдает и мир, и само христианство.
Примечания
1. Бенедикт XVI. Caritas in Veritate. Энциклика о целостном человеческом развитии в любви и истине. – М.: Издательство Францисканцев, 2009. – 112 с.
2. Митрополит Пергамский Иоанн (Зизиулас). Православное богословие и вызовы XXI века (http://www.religion.in.ua/main/bogoslovya/13434-pravoslavnoe-bogoslovie-i-vyzovy-xxi-veka.html)
3. Клэйборн Ш. Путь. Как жить по-христиански сегодня, реально изменяя жизнь. – М.: Эксмо, 2010. – С. 179.