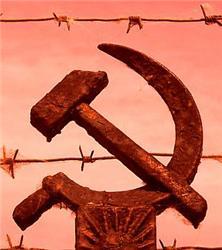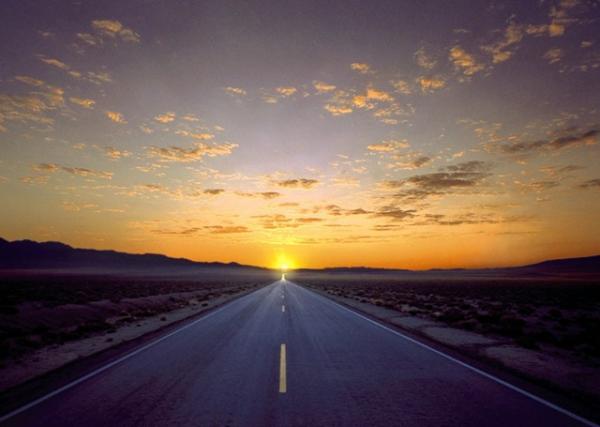![Миссиология евангельских церквей: после постсоветскости]()
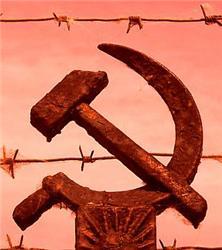
Вводные замечания
Будущее и надежда постсоветских Церквей связаны с восстановлением органической и необходимой связи между церковной жизнью, миссионерской активностью, актуальным богословием и богословским образованием. К сожалению, для большинства евангельских христиан эти сферы остаются разделенными, а картина мира – разорванной. Последующие тезисы предлагают анализ и перспективу служения постсоветской Церкви с позиций целостности, единства и взаимодополняемости богословия и миссии, образования и служения.
Еще одной особенностью предлагаемых размышлений является ориентация на будущее, в то время как для постсоветских церквей характерна ориентация на прошлое, постоянное озирание назад, на прошлый опыт, в частности на опыт советского времени.
В условиях, когда Церковь оборачивается назад, живет и мысли в разорванной картине мира, самокритичное богословие и качественное богословское образование кажутся лишними – их не было в недавнем прошлом и они с трудом вмещаются в привычную схему закрытой церковной жизни. Но именно богословие и богословски обоснованное образование могут стать двигателями преобразования Церкви и ее миссии.
Писать о Церкви, миссии, богословии и образовании в постсоветском пространстве сегодня не удобно и не выгодно как минимум по трем причинам. Во-первых, потому что большинство надежд и ожиданий, возникших после распада СССР, не сбылись, эйфория сменилась усталостью и разочарованием. Больную тему стараются забыть, страницу неудач – перелистнуть. Во-вторых, объективное обсуждение религиозных процессов постсоветского пространства становится рискованным ввиду антизападной позиции России. В-третьих, постсоветские Церкви, миссии и учебные заведения редко допускают самокритику, поэтому любые попытки анализа, как правило, сводятся к вопросу «кто виноват?».
Все три причины — довольно серьезные факторы, чтобы их игнорировать. Через эти вопросы нужно пройти – через опыт усталости и разочарования; через искушения удобного антизападничества; через боязнь больных тем, критики, ответственности.
Нужно услышать разные голоса, в том числе, голоса усталых и разочарованных. Недавно один украинский пастор, преподаватель богословских дисциплин, с грустью признал: «Дело последних двадцати лет служения оказалось неудачным. Моя Церковь не выросла, мои студенты не стали активным и успешными лидерами». Подобные фразы можно услышать от руководителей миссий: «Где результаты наших посевов? Где долгожданное преобразование общества? Где реформация Церкви?». Эти же вопросы звучат со стороны общества к Церкви. Их задавали люди на Майдане, уставшие от коррупции и беззакония, а также от христианского безразличия и безответственности.
Ответы, которые предлагаются со стороны Церкви, часто лишены богословского обоснования, а иногда и прямо противоречат фундаментальным библейско-богословским принципам. Мы встречаем лояльность государству, но редко видим лояльность обществу. Мы видим оправдание простоты, но редко встречаем поощрение к интеллектуальному развитию. Легко оправдывается маргинальность Церкви, и так же легко – ее социальная пассивность и безответственность. За неимением богословских ответов, лидеры евангельских Церкви заимствуют внешние идеи. Так российские баптисты любят ссылаться на статьи Патрика Бьюкенена о «Путине – защитнике христианства». Так эксплуатируются удобные псевдобогословские схемы о гибели христианства на Западе и об особой духовности славян. Так упорно отстаивается сомнительный тезис о вреде «западного» богословия и «лишнего» образования, искушающих церкви своим плюрализмом теорий.
Еще одной спецификой данной статьи можно считать анализ церковных и богословских процессов в неразрывной связи с процессами социально-политическими, главной линией которой можно считать постепенное освобождение от советского наследия, которое принимает формы или десоветизации (как в Украине), или неосоветизации (как в России).
Нетрудно заметить даже по риторике церковных лидеров, что церковь, ее представления о себе и своей миссии, неизбежно вписываются в общественный контекст. Поэтому неизбежным будет обсуждение этого контекста – где Церковь должна подстраиваться под него, а где должна его оспаривать, с ним конфликтовать.
Итак, речь пойдет о будущем Церкви, миссии, богословия и богословского образования в их нерасторжимой связи, в ориентации на перспективу и с учетом социально-политического контекста.
Здесь нужно сделать несколько пояснений и оговорок относительно терминов и ограничений.
О церкви и Церкви. Чаще всего, говоря о церкви, мы будем иметь ввиду сообщество постсоветских евангельских церквей, прежде всего баптистских и пятидесятнических. Там, где слово «церковь» написано с малой буквы, подразумевается церковь как конкретная институция. Там же, где используется заглавная буква, имеется ввиду единая вселенская Церковь как мистическое Тело Христово.
О миссии. В узком смысле под миссией подразумевается внешняя активность Церкви по привлечению новых людей. В широком смысле миссия предполагает не только спасение людей из общества, но и преобразование общества.
О Царстве. Царство Божье – это искупленная, восстановленная, преображенная реальность, включающая не только Церковь, но и весь мир. Мы можем видеть уже сейчас следы и очаги этого Царства, но при этом ожидаем его полного и окончательного пришествия.
О теологии. Чаще всего под «теологией» понимают сумму знаний, но объем понятия стоит расширить: это также способ мышления, порядок ценностей, тип отношения к себе и миру, образ жизни, картина мира. Иными словами, теология соединяет теорию и практику, духовное и социальное, личное и коллективное, традицию и современность, объяснение и преобразование.
Уже в понимании данных понятий выражается установка на целостность, вне которой разграничения Церкви и Царства, теологии и миссии, теории и практики, лишены смысла. Стоит отметить, что интенция целостности совпадает с самопониманием современного богословия и постмодернистской чувствительности, в которых «Теория больше не относится с ментальными конструкциями, существующими независимо от их воплощений в физических, физиологических и социальных структурах жизни. Теория и практика влияют друг на друга так, что практика включает теорию и теория может быть различима только через практику» . Исходя из нетривиальной связи теории и практики, богословия и миссии, рефлексии и жизни Церкви будут переосмыслены стереотипы о «христианском мировоззрении», «непрактичности теологии», «политической нейтральности» и т.п.Ключевыми концептами последующих тезисов будут «миссиология Царства» (“Kingdom Formation”) и «открытое христианство». Мы надеемся, что в свете этих концептов для постсоветских церквей откроется возможность мыслить себя перспективно, а не ретроспективно, открыто, а не закрыто, рефлексивно, а не консервативно.
Миссия в бывшем СССР: сдвиг миссиологической парадигмы
Церковь в бывшем СССР вступает в новую эпоху. И локомотивом развития, тянущим за собой масштабные перемены, станет миссиология. Долгое время постсоветские евангельские христиане пренебрегали теологией, в том числе экклезиологией, фокусируясь на «миссии» в ее самом простом значении. Но уже скоро нужды миссии потребовали миссиологии, а вопросы миссиологии уперлись необходимость целостного богословского анализа связок Церкви и Царства, общины и общества, миссии и образования, веры и культуры.
Очевидно, что наше время – переходное. Очертания будущего еще туманны, как сквозь тусклое стекло. Но все же можно указать на пять переходов, которые постсоветская Церковь проходит сейчас, и которые определяют перемены в ее образе жизни и служения.
Во-первых, мы переживаем переход от конфессионального понимания миссии Церкви как «вот этой», «нашей» к миссиологии Царства. Вальтер Заватски назвал это поворотом от «церковно-центрированной миссиологии» к «миссиологии Бого-центрированной», когда «миссия больше не ограничивается основанием Церквей, но означает шалом Царства» .
Во-вторых, происходит переход от партикуляритского понимания миссии как «духовного труда» некоторых уполномоченных людей Церкви к идее целотностной миссии, охватывающей все сферы жизни и призывающей к действию всех людей Церкви. Богословским основанием для активации движения профессионалов-христиан становится переосмысление идеи всеобщего священства .
С этим связано расширения социальной базы миссии — от служения миссионеров-профессионалов к движению профессионалов-миссионеров. В Украине создан Альянс христианских профессиональных ассоциаций. Тема миссии в профессии становится актуальной для национальных авторов , выходят даже специальные издания Евангелия «Евангелие на рабочем столе».
Если раньше миссия сводилась к евангелизму и основанию новых церквей, то сегодня она неизежно включает социальную ответственность. В своей программной статье миссиолог Йоханнес Раймер обращается к национальной истории миссии и показывает на примере подходов Ивана Проханов и Ивана Воронаева важность социальной составляющей в успехе их миссии . Миссия-провозглашение в обществе становится миссией-трансформацией самого общества в целостности его измерений.
В-третьих, в связи с культурными и демографическими процессами становится неизбежным переход от первичного провозглашения христианской истины до вторичной миссии по оживлению, пробуждению, реформации «уже-» или «якобы-христианства». В 2013 году отмечалось 1025-летие Крещение Руси. Около 80% населения европейской части бывшего СССР относит себя к христианской традиции. Но практикующими христианами являются лишь считанные проценты. Молитвы, Библия, общинная жизнь остаются экзотикой, уделом особо «духовных». Общество стало постхристианским, а Церковь – музеем. Только новая Реформация может обновить Церковь, вернуть ей преобразующий потенциал. Поэтому объектом миссии становятся не «еще не христиане», а «как-бы христиане».
В-четвертых, наблюдается переход от поверхности малой истории к освоению глубины и перспективы. Этой проблематике посвящена коллективная богословская работа Евангельского собора – ежегодной конференции евангельских лидеров . Не достаточно довольствоваться знанием своей малой традиции, необходимо углубление к корням, освоение исторического опыта соборной Церкви в многообразии ее традиций. Лишь обогащаясь этим углублением, можно смело, с христианским оптимизмом смотреть в будущее, трудясь для него, чтобы оно стало более христианским, чем прошлое.
В-пятых, происходит сдвиг от привычного краткосрочного проектного мышления и наивной исключительности к полноценному партнерству между традициями и регионами. Так миссиолог Петер Пеннер призывает к диалогу и «настоящему библейскому партнерству» в исполнении «Божьей миссии» между иностранными и национальными движениями, а также между евангельскими и православными Церквами . Время требует не наивного глобализма-вестернизма, не заискиваний и заимствований, а достойных партнерских отношений и творческого построения локальных миссиологий.
Эти переходы знаменуют собой более глубинный сдвиг миссиологической парадигмы, который пока еще трудно описать, но его масштабы говорят о том, что он станет радикальным переосмыслением Церкви и ее призвания. Не случайно эти процессы совпадают по времени с приближающимся юбилеем европейской Реформации. Постсоветские евангельские христиане пропустили свою Реформацию (украинский теолог Дмитрий Бинцаровский называет постсоветский протестантизм «протестантизмом без Реформации» ), и возможно именно сейчас им дается еще один шанс обновить Церковь и преобразовать общество.
Видение Царства и местные идолы
Видение миссии Церкви в свете Царства настолько превосходит локальный масштаб, что не только вне церкви — в не- и постхристианском обществе, — но и внутри нее возникает сопротивление. Существуют местные идолы и стереотипы, мешающие смотреть шире и дальше себя, свой церкви, своей традиции, своей эпохи: фундаментализм, национальная исключительность, историческая близорукость, антиинтеллектуализм. Их сочетание ограничивает потенциал евангельских церквей, замыкает их в культурно-богословской изоляции, в плену прошлого, в рамках неписанной и нерефлексивной традиции «братства». Свет знаний, острие критики, конкуренция с другими рассматриваются как угроза, а не возможность развития.
Главной проблемой на пути к видению Царства является фундаментализм. Казалось бы, приверженность незыблемому авторитету Божьего Слова должна выгодно отличать постсоветских протестантов от их западных секуляризированных собратьев. Но беда в том, что фундаментализм не существует в одиночестве, он расцветает в соседстве с другими названными идолами – национальной гордыней, исторической близорукостью и антиинтеллектуализмом. В таком сочетании интенция на авторитет Писания легко переходит в канонизацию своей версии толкования, в противопоставление всем иным и осуждение прочих как «либералов». Фундаментализм наивно и при этом агрессивно претендует на эксклюзивное и непосредственное знание истины Писания, в обход сложной академической теологии и опыта традиций. При последовательно фундаменталистском подходе ни богословие, ни богословское образование не нужны, разве что воспитание себе подобных – без альтернатив и лишних теорий. А в сочетании с примитивным кальвинизмом, который в постсоветских церквях активно насаждают сторонники Джона Макартура, фундаментализм делает лишней и миссиологию, замыкаясь на интересах избранного «малого стада».
Не случайно молодые постсоветские богословы называют фундаментализм «тормозящим фактором» в богословском развитии церквей. Отказывая наукам и, в том числе, теологии, в праве на авторитет и значимость, фундаменталисты безмерно упрощают реальность и ее истину, лишают себя перспективы. Ведь если «Библия не содержит ничего не понятного и является книгой не сложнее букваря» , то каждый вправе толковать истину по-своему и считать себя главным толкователем. Особенностью постсоветского фундаментализма можно считать еще и то, что вычитывается в Библии не руководящая идея, которую можно творчески применять, а значит сохранять при этом свободу; но конкретная регламентация мысли и поведения, как у Маяковского: «что такое хорошо и что такое плохо?». Поэтому портрет советского и постсоветского баптиста был написан не богословскими линиями, а поведенческими, не позитивными, а негативными красками: «баптисты это те, кто не пьют, не курят, не смотрят телевизор, не имеют икон и не крестятся, не участвуют в выборах и не принимают воинскую присягу».
Сегодня фундаментализм проявляется главным образом в недоверии к академическому богословию и богословскому образованию, к диалогу традиций; в неприятии экуменизма, «мирской науки», «секулярной» современности; в поклонении букве Библии и страхе перед полисемантизмом; в культе «правильных» толкователей и постоянной охоте на «либералов». Современные баптистские богословы сохраняют верность Библии как авторитету и руководству, при этом фундаменталистски предвзятое отношение к Библии называют библицизмом . К сожалению, эти критические подходы мало популярны в постсоветском культурном пространстве. Гораздо более популярны высказывания Джона Макартура о том, что Библия не только единственное надежное, но и полностью достаточное руководство на все случаи жизни .
Фундаментализм нарушает традиционную для евангельских христиан гармонию между авторитетом Писания и свободой (если говорить о баптистской традиции, то семь баптистских принципов стоят на этих двух ценностях).
Примечательно, что попытки восстановить гармонию авторитета и свободы исходят именно из образовательной среды. Так Федор Райчинец, декан Украинской евангельского богословской семинарии, призывает к герменевтической свободе и контрфундаменталистскому пересмотру идентичности евангельских церквей, ссылаясь на Вальтера Шардена, представителя умеренных баптистов («Баптистская идентичность – это свобода, а не контроль; принцип добровольности, а не принуждение; индивидуализм, а не стадность; личная религия, а не народная; разнообразие, а не однообразие» ) .
Фундаменталистская уверенность в правильном понимании истины связана с другой уверенностью – в собственной национальной эксклюзивности. В постсоветских церквях бытуют мнения, что русско-украинские евангельские церкви обладают особой духовностью и призваны к вселенской миссии. Эти мессианские чувства уходят корнями в концепцию «Москвы как Третьего Рима», в идеи Достоевского и Соловьева, Проханова и Марцинковского. Рационалистичному Западу противопоставлялась мистическое чувство, догматике – доксология, умной теологии — благоговение и тайна, поиску — созерцание. Все недостатки объявлялись достоинствами. Отсутствие теологии и образования оправдывалось их ненужностью.
Если на Западе богословы занимались поисками истины, пониманием и объяснением, то на Востоке евангельские церкви унаследовали от православия уверенность в том, что истина уже известна и ее нужно лишь сохранить. Отсюда проистекает известное высокомерие необразованных, зато «духовных» христиан к «богословам». Вот поэтому после падения «железного занавеса» интерес к богословскому образованию пережил пик и угас – систематичное знание, методическое изучение, интеллектуальный труд не входят в список национальных ценностей.
Проблема усугубляется тем, что претензии на исключительность сочетаются с исторической близорукостью. Если традиция достаточно глубока и богата, она на определенное время может позволить себя изоляцию. Но евангельские церкви постсоветского пространства живут в пределах «малой истории», самые «древние» из них насчитывают порядка 150 лет истории. Острая близорукость оборачивается тем, что канонизируется не древняя и проверенная традиция, а опыт советских лет – не потому что он был лучший, а потому что другого не знают. Опыт советских лет – опыт маргинальной жизни, а точнее постоянной борьбы за выживание, в которой интеллектуализм казался непозволительной роскошью. Проекция этого опыта на наши дни означает абсолютизацию маргинального способа существования как самого верного. Ни активная миссия, ни богословие, ни образование в таких условиях не возможны, да и не нужны, потому что жить в постоянной маргинальности, без планов на будущее, без надежд на преобразование общества, можно лишь с ожиданием «вот-вот конца».
Казалось бы, открытие богословских школ после распада СССР ознаменовало новую эпоху – эпоху долгосрочных планов подготовки лидеров для церквей и миссий. Но и здесь ожидали слишком быстрых результатов, не видя будущего и не готовясь к нему. Когда от «богословия» таких результатов не увидели, его спешно сменили программами по миссионерской подготовке, а затем и более «практичными» курсами «лидерства». Лишь сегодня возникает понимание, что без богословского базиса лидеры и миссионерские проекты повисают в воздухе. Без ясной богословской идентичности, без последовательной стратегии богословия-образования-миссии-церкви внешняя активность принесет лишь краткосрочный эффект.
При всех региональных отличиях постсоветские евангельские христиане, сформировавшиеся в советское время под определяющим влиянием баптистской традиции, оказываются в одном тренде с зарубежными собратьями, для которых “быть баптистом – вызов”, которые вынуждены “осваивать скандальное прошлое и неопределенное будущее”: “Вопросы баптистской идентичности – церковь верующих, общинность (covenant community), свобода совести, библейская герменевтика, глобальная миссия – требуют внимательного изучения, нового экзамена и даже реформации с участием баптистских групп всего богословского спектра” .
Вот один из необходимых в связи с этим выборов: сохранить свой голос меньшинства или стать пророческим голосом для глобального сообщества . Представляется, что на подобной развилке оказались и постсоветские христиане: остаться в изоляции фундаментализма, национальной гордыни, исторической близорукости, антиинтеллектуализма, или восстанавливать прерванные связи, соединять фрагменты целого через богословский труд и богословское образование.
Два способа миссии Церкви в мире: преобразование общества или сопротивление миру
Постсоветский протестантизм оказался на исторической развилке: продолжаться сопротивление миру или взять ответственность за преобразование общества. Очевидно, что перспективы развития и влияния связаны со вторым. Но инерция прошлого обязывает к первому варианту. Во время царской империи, а затем и в советский период доминировала установка на сопротивление. Видение Церкви, влияющей на общество, было характерно лишь для Проханова и оказалось утопичным в условиях того времени. Его проекты православно-протестантского альянса, христианского образования, политических партий, гражданских инициатив, городов и коммунн были приняты с большим народным энтузиазмом, но затем были остановлены и уничтожены начавшимися репрессиями со стороны государства. С тех пор вновь возобладала установка на отделение от мира, противостояние враждебному обществу, сохранение веры ввиду скорого Второго пришествия.
Даже после распада советской империи, в годы пиковой активности евангельских церквей, эксперты скептически оценивали социальный потенциал постсоветских протестантов. В частности, Виктория Любащенко еще в 2001 году назвала ожидания общественной активности «стереотипами» веберовского типа, и обозначила украинский протестантизм как «народную», «радикальную» версию Реформации: «Ограниченный доступ к классическому наследию, оторванность от мировых центров богословской мысли, продолжительная гражданская неразвитость сформировали в Украине довольно своеобразный протестантизм. Он слабый низким образованием своих адептов, но сильный их миссионерским энтузиазмом и общинным равенством. Ему не хватает развитых религиозно-философских учений, но вполне достаточно нелукавых представлений, которые облегчают чтение Библии. Средний «украинский» протестант далек от доктринального модернизма и политических лозунгов, зато очень привержен сохранению своей христианской семьи, исполненной благочестия и гражданской покорности» .
На самом деле и «преобразование общества» и «сопротивление миру» — не более чем идеальные типы. На практике оказывается, что часто «преобразование общества» сводится к изменению отдельных элементов себе на пользу, а не всей структуры в целом; аналогично «сопротивление миру» — удобный способ мобилизовать внутренние силы при отсутвии видения, сохранить контроль в нужных руках на «трудное время», продлить старый способ жизни. Если присмотреться еще более внимательно, то можно заметить, что и тем и другим типом можно довольно удобно манипулировать. Так в советское время легальные общины втягивались в борьбу за мир и воспитание советского человека, и при этом страдали от внутренних проблема — слабого лидерства, дефицита духовного содержания, богословской безграмотности; а нелегальные общины, увлеченные партизанской войной с миром, героизмом и духовностью, страдали крайностями экскапизма, нетерпимости к любым компромиссам, внутрицерковного авторитаризма. Разным способом и те, и другие были лишены преображающего влияния на общество.
Сегодня становится ясно, что в разумной прапорции необоходимо сохранять оба вектора – и на «преобразование общества» и на «сопротивление миру»; беречь обе ценности – солидарности с другими и верности своим принципам. Это сочетание возможно лишь при грамотной богословской балансировке.
Постсоветским евангельским христианами предстоит ответить на вопрос, который они долго откладывали: почему Евангелие должно не только спасать, но и преображать?
Евангельские Церкви известны своими двумя особенностями: акцентом на личных отношениях с Богом и миссионерской активностью. Обе особенности выделяют их на фоне исторических Церквей. Последние подчеркивают важность традиции и истории: традиция сама включает нового человека в сообщество веры и ограничивает роль личности, а историко-культурная и политическая значимость Церкви в обществе привлекает людей куда больше, чем миссионерские призывы.
Сегодня и евангельские, и исторические Церкви оказались перед вызовом Майдана. Уже недостаточно «только» личной веры и евангелизма, или только традиции и «заслуженного» авторитета. Просходящее на Майдане показывает, что оба подхода Церкви к обществу исчерпали себя и нуждаются в пересмотре.
От исторических Церкви хотят того, чем были сильны Церкви евангельские, — большего внимания к личности, личным отношениям с Богом, живого Евангелия, понятной проповеди.
От евангельских Церквей требуют того, что считали своим эксклюзивом Церкви исторические, — большего внимания к общественным измерениям веры, связи с «большой» традицией, местным культурным особенностям, истории своего народа.
Поскольку я представляю именно евангельские Церкви, то о них скажу больше. Евангельские христиане грешат тем, чем должны были бы служить своим более старшим братьям по христианской семье, — индивидуальным подходом и проповедью спасения.
Акцент на личном, осознанном, зрелом обращении сыграл с евангельскими протестантами злую шутку: они увлеклись личными вопросами в ущерб социальной ответственности. Активная проповедь Евангелия превратилась в занудное морализаторство, «только слова», увлечение духовными измерениями в ущерб решению видимых и вполне освязаемых проблем.
В итоге евангельские протестанты слишком хорошо знают, что такое «я», но не знают «мы»; что такое «слово Божье», но не знают, как оно выражается в действии и со-участии. Соответственно, реакция большинства евангельских христиан на Майдан была «нейтральной»: это не наше дело, каждый должен заниматься собой, а если и участвовать в жизни общества, то только проповедью.
Миссия свелась к призыву людей присоединиться к Церкви. Как говорит пастор Сергей Головин, вместо исполнения слов Христа «идите и научите», евангельские христиане говорят «пойдите и заманите». В результате миссия служит «только» Церкви, а общество остается без преображающего влияния. Свет светит «только» своим, соль раздают «только» членам Церкви. Но не это имел ввиду Христос, говоря, «Вы соль земли… Вы – свет миру. Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку – и он светит всем в доме. Пусть так же светит свет ваш среди людей…» (Матф. 5:13-16).
Нужно отказаться от «только» и вернуться к целостной миссии, когда и личность, и общество, и проповедь, и соучастие, и духовное, и социальное, и моральное, и политическое станут дополняющими частями общей христианской социальной «картины мира».
В прошлом веке богословы Лозаннского движения предложили говорить о миссии как трансформации. Для евангельских Церквей это было радикальное переосмысление миссии, когда призыв людей из общества в Церковь был дополнен призывом Церкви идти в общество и преобразовать его.
Начатая в мировом евангельском движении работа по обновлению миссиологии должна быть продолжена и на национальном уровне. Очевидно, что евангельские Церкви Украины мало знакомы с документами Лозаннского движения.
Итак, почему же миссия должна быть понята как трансформация, почему Евангелие должно не только спасать отдельных людей, но и преображать общество? Потому что «только» — опасное слово. Потому что учение Христа о Церкви и ее миссии в мире было частью Его учения о Царстве. Потому что мировое евангельское движение может предложить нам богатый опыт целостной миссиологии и вдохновляющие истории того, как Евангелие меняет судьбы наций.
Образы постсоветской миссиологии: подходящая, целостная, глубокая, открытая
Постсоветская миссиология ищет и конструирует свои новые, актуальные образы. В этом поиске встречаются и спорят две реальности – библейско-богословская и социокультурная. Будущее миссии в странах бывшего СССР связано с формированием множественных подходящих, локальных, аутентичных, эффективных, целостных миссиологических подходов в рамках парадигмы всемирного христианства, которая основывается на библейских принципах, разворачивается в целостную теоретическую систему, обобщает исторический опыт церквей и различных богословских подходов, учитывает местный контекст и ориентирована на нужды и вопросы локальных сообществ . Разрыв между библейско-богословскими основаниями и контекстом дискредитирует миссиологию как неуместную (находящуюся «не у места», не подходящую для данного места), оторванную от реальности, неактуальную, или как слишком ограниченную своим местом, захваченную своим контекстом, оторванную от библейских универсальных истин. Постсоветская миссиология грешит чрезмерной увлеченностью Бого- либо экклесиоцентризмом и почти полным игнорированием социального измерения. Хотя игнорирование и незнание социокультурного контекста неожиданно сменяется его абсолютизацией, канонизацией, сакрализацией (так происходит в современной России: христианство вместо трансформирующего фактора «соли» и «света» стало «столпом» и «скрепой», оправданием и освящением путинской политики).
Подходящая, целостная, глубокая, открытая – подобный ряд характеристик позволит постсоветской миссиологии удерживать разные аспекты, направления и измерения вместе.
Подходящая миссиология творчески применяет библейские принципы и задачи миссии к локальной ситуации, направлена от мира Священного Писания к миру живых людей. Здесь главным можно считать нацеленность на контекст, приспособленность к нему, точную и даже точечную настройку.
Целостная миссиология задается вопросом о том, как нацеленность на конкретные вопросы общества сочетается с тем, что глубже, шире и выше «вот этой» социальной ситуации. Целостность требует добавить к конкретному общее, к приспособленности – критику, к компромиссу – принципиальность, к социальному – духовное, к историческому – эсхатологическое. Целостная миссиология напоминает о многомерности и дополнительности, нераздельности-неслиянности, о необходимости видеть общую картину, а не только данную ситуацию и ее срочный вызов. Здесь главным можно считать не точечное и не плоское, а объемное, масштабное видение, общую картину.
Глубокая миссиология акцентирует историческое измерение, миссию как продолжающийся процесс, имеющий свою логику, закономерности, действующие силы, многочисленные факторы, последовательность, преемственность памяти и опыта, роль традиции. Если подходящая миссиология задается вопросом о «здесь и сейчас», то глубокая миссиология смотрит в корень, насколько сегодняшняя ситуация предопределена прошлым. В первом случае предлагается ответ на злобу дня, во втором делается попытка припоминания, восстановления забытой или утраченной связи. Так для большинства жителей постсоветского пространства основным методом может быть не ознакомительный рассказ о христианстве, будто о нем ничего не знают и слышат в первый раз, но актуализация давно известных истин, находящихся в глубокой памяти рода и народа, бывших ранее христианскими.
Открытая миссиология предполагает, что церковь не только направлена на общество как на объект своей миссионерской активности, не только иногда приходит в общество для свидетельства и «улова», но живет там постоянно, свободно и открыто, не выстраивая границ и стен. Открытость означает движение в обе стороны. Церковь не только учит общество тому, что Бог открывает внутри церкви, но и учится тому, что Бог открывает церкви внутри общества. При открытости церковь перестает быть «святым местом», противопоставленным «секулярному» миру. Социальная реальность рассматривается как часть Божьего творения, которое поддерживается, искупается, освящается Его присутствием. Бог действует внутри и вне священных пространств, во всем мире, и церковь — вместе с Ним.
Требования к миссиологии быть подходящей, целостной, глубокой и открытой приводят к ряду неожиданных корректив для традиционных взглядов на миссию как приглашение людей присоединиться к церкви.
Во-первых, вводится различие и возникает напряжение между миссиологией церкви и миссиологией Царства. Миссиология церкви выражает ответственность «нашей церкви» за выполнение Великого поручения Христа и реализует эту ответственность конфессионально приемлемым образом. Миссиология Царства указывает на единство Missio Dei и миссии церкви, на более широкий масштаб Божьей спасительной работы с участием церкви или без нее.
Во-вторых, целостность миссиологии на практике раскрывается как ее разнообразие, множественность, сумма локальных миссиологий, сменяющих и дополняющих друг друга. Можно говорить не только о смене миссиологических парадигм в истории, но и о соприсутствии «миссиологий родительного падежа», каждая из которых возникает как ответ на определенный вызов.
В-третьих, постсоветская миссиология требует новой библейской герменевтики «на каждый день», поскольку следует из радикального и всегда нового, свежего прочтения Библии в свете вызовов сего дня.
В-четвертых, успех миссиологии выражается не обязательно в триумфе христианства над обществом, но обязательно в сострадании и соучастии в жизни общества. Имеет смысл говорить о миссиологии креста (по аналогии с «theologia crucis») и миссиологии солидарности. Здесь сохраняется социальная ответственность, стремление влиять и изменять, но уже без наивного оптимизма по поводу христианизации и Christendom.
В-пятых, миссиология оправдывает не столько движение от церкви в мир, но и постоянное присутствие в мире, не только деятельность, но и жизнь. Это не столько образ действия, сколь образ мышления и бытия. Миссия в мире реализуется в императивах провозгласить и призвать, послать и преобразовать, идти и научить, но также в необязывающих формах: быть, жить, сострадать, любить, солить, светить.
В-шестых, обновление миссиологии потребует восстановить связь миссии и ученичества, учения и проповеди, просвещения и обращения. Великое поручение Христа говорит не только о поспешной передаче истины, но о долгой и трудной работе миссионеров-учителей с учениками, о христианском просвещении наций, о воспитании целых народов. В связи с этим слова русского писателя Николая Лескова о том, что «Русь была крещена, но не просвещена» высвечивают наиболее важную задачу миссии в постсоветском пространстве. Ведь и о евангельском пробуждении можно сказать похожее: Русь была пробуждена, но не просвещена. Люди начали читать Библию, учиться верить и жить по Писанию. Но до сих пор и православные, и евангельские христиане лишены ясных богословских ориентиров и воспитывающего влияния христианской культуры. Хорошим эпизодом в истории евангельской миссии можно считать миссию Российского христианского студенческого движения в начале XX в. Его основатель Павел Николаи верил, что новое христианское мышление может развиваться благодаря влиянию на студентов, т.е. будущую элиту страны; что необходимо воспитывать тех, кто будет способствовать установлению Царства Божьего. Он писал о задачах студенческой миссии так: «Подумайте о том, что преданные вере мужчины и женщины займут все руководящие посты в обществе: вот цель, ради которой стоит работать. Подумайте только, что они смогут совершить: им не будет преград» . Этот прецедент вместе с другими (таких как деятельность евангельских кногонош в XIX в.) может стать отправной точкой для формирования новых форм миссии, совмещающих евангельскую проповедь с христианским просвещением.
Контекстуальная миссиология: советское наследие и «православное возрождение»
Подходящая, целостная, глубокая и открытая миссия в постсоветском контексте, должна будет определиться относительно двух ключевых факторов: советского наследия и православной традиции. Связь этих факторов сказывается всюду: в сакрализации государства, неприятии инакомыслия, мифе об особом исторической пути, особой святости и духовности, притязаниях на всемирную значимость, парадоксальном единстве веры и богоборчества.
До сих пор нет лучших формулировок контекстуальной миссиологии, чем предложенные в начале XX ст. лидером евангельских христиан Иваном Прохановым: «Евангельские христиане, восприняв принципы протестантского понимания христианства, при котором осуществляются вполне принципы свободной совести и свободной церкви, именной такой, какой она была во времена Апостолов, стараются применить их на пользу своего народа, никогда не переставая сознавать, что каждый народ должен славить Бога согласно своим особенностям языка, местности, народности» .
Сегодняшние особенности постсоветской духовной ситуации – постатеизм и неоправославие. Постатеистическое состояние делает невозможным возврат к традиционным верованиям , поэтому православие возможно или как «бедная религия», весьма близкая евангельскому христианству, или как неоправославие — стилизация под традицию с претензиями на власть, причем не только религиозную.
Этим объясняется и традиционный правовой нигилизм, и невиданное отчуждение народа от власти, общества от государства. Православным влиянием объясняется и «естественность» государственной религииили религиозного государства (религии государства). Как пишет известный исследователь концепции власти в православии Виктор Петренко, «Ленин предложил коммунистическую «версию симфонии» и православие оказалось «в тени серпа и молота» (так называется одна из глав книги «Власть в церкви»).
Если рассматривать эпоху атеизма в контексте тысячелетней истории, то она вполне вписывается в линию развития православия . Атеизм оказался секулярной формой богоборчества, истоки которого обнаруживаются в истории православия. Советский союз оказался превращенной формой православной теократии.
При всей актуальности отношение евангельских христиан к русскому православию остается одной из малоизученных тем постсоветского богословия и миссиологии .Возможно, это отражает внутреннюю раздвоенность постсоветского протестантизма – между наследием западной Реформации и православной духовной культурой. Еще в 1908, выступая на Европейском конгрессе баптистов в Берлине, спикер российских баптистов Василий Павлов выразил это так: «Немцы более 400 лет тому назад пережили свою Реформацию, тогда как между русскими она только начинается. Славянские народы, в большинстве своем, еще доселе не приняли Христа в его чистом, неискаженом виде и все еще находятся под влиянием… греко-восточной церкви» .
Для постсоветских евангельских церквей православие – влиятельная культурная среда, определяющий фактор политики, глубокая богословская традиция, но также миссионерское поле. Миссиология евангельских церквей формируется в православном религиозно-культурном ареале, но в то же время рассматривает этот ареал как сферу своего влияния, ре-формирования. Так что православние – и фактор формирования евангельской идентичности, и объект евангельской миссии.
Проблема том, что у евангельских и православных церквей — разные представления о структуре пространства и задачах миссии. То, что евангельские протестанты видят как «ничейное» или общее миссионерское поле, православные считают своей и только своей канонической территорией. Постатеистическое общество, которое евангельские церкви рассматривают как «еще не христианское», православные церкви считают «давно уже христианским». Соответственно, если евангельская миссиология подчеркивает необходимость обретения личной веры и личных отношений с Богом, православная миссиология акцентирует коллективное измерение и общий завет, заключенный еще князем Владимиром в событии Крещения Руси в 988 году.
Соответственно, для евангельской миссиологии возникает задача теоретического обоснования специфической миссии относительно православной культуры и православного общества: cделать номинальных «православных» евангельскими православными, а не протестантами. В диалоге традицей и миссиологий действительно и безусловно объединяющим фактором может быть только Евангелие.
Хотя для того, чтобы утвердить его высочайший авторитет вовсе не обязательно отбрасывать традицию. Глубина и простота нужны друг другу, особенно в богословии. Протестантизм умеет различать и акцентировать, но ему не хватает материала. Православная традиция может обогатить, протестантское богословие – прояснить.
Протестантско-православные отношения могут развиваться через постижение общей истории, линии которой проходят и через патристику, и через реформацию, так что недостающее одним находится у других; через дискуссии о привилегиях и соблазнах историчности и государственности, связи доминантных и субдоминантных форм традиции, иерархии титульных и маргинальных форм церковности. Но исходя из трудностей диалога, стоит констатировать: протестанты и православные поймут друг друга лишь тогда, когда и те, и другие станут евангельскими христианами. И те, и другие не могут вернуться к Евангелию и апостольской церкви, не составив карту из фрагментов, разделенных между конфессиями. «Доколе не придем в единство веры» (Эф. 4:13), православние и протестантизм – подготовка к настоящему христианству. Как заявил один киевский религиовед, «Вы говорите о постхристианстве, о кризисе и конце, а мы, вслед за о. Александром Менем, верим, что “Христианство только начинается”.
На карте постсоветской религиозности можно видеть впечатляющий рост просто православных и просто христиан. В этом выражается новый запрос на евангельское христианство. Вначале вышедшиеза пределы конфессиональной традициистановятся “просто православными” или«просто протестантами», затем – «просто христианами». Так что не только православные, но и протестанты хотели бы стать «евангельскими».
В этом контексте интересно читаются слова Проханова: “Вопреки всем уверением недомысленных людей, евангельские христиане не имеют вражды ни к какой из существующих религиозных организаций, и тем более к Православной церкви, к которой они относятся с полным уважением. Но они молят Бога, чтобы Он восстановил Свою Церковь в ее апостольской свободе и чистоте, чтобы свет Евангелия возрождал отдельных граждан России и обновил все ее устои” .
Будущее посоветской миссиологии связано с переопределением отношений к советскому наследию и православной традиции, с освобождением от советского влияния и настройкой уважительного и при этом критичного диалога с православием.
Таким образом, контекстуальная миссиология принимает контекст, заданный постатеизмом и неоправославием, как среду своего формирования и своего служения, но воспринимает его критически и преобразует в свете Евангелия и евангельской веры.
После постсоветскости
Постсоветское евангельское христианство освобождается из плена, перестает быть постсоветским (т.е. хотя и «пост», но все же советским, несущим на себе следы трагического советского опыта репрессий, маргинализации, изоляции). В Украине затянувшийся советский транзит был прерван Майданом. В России, судя по тенденциям, возможна реставрация советизма и соответствующая консервация евангельских церквей. Рецидивы советскости возможны везде и всегда, но мейнстримом развития евангельских церквей становится простое и открытое христианство, свободное, скромное, благодарное, готовое учиться и служить.
Евангельское христианство не перестало быть меньшинством, но старательно учится быть меньшинством влиятельным. Ярким образом становится «Церковь без стен» — служащая не себе, а всему обществу, представляющая интересы Царства Божьего во всех сферах жизни.
В ближайшие годы увидим расцвет евангельского экуменизма в действии, христианскую солидарность поверх конфессиональных границ. Неожиданно мы встретим искомое христианское единство, но не в Церкви, не в догматике, а вне стен, в миссионерском «поле», в гуще общественных процессов.
Еще одно место, где можно пережить удивительное чувство христианской общности – учебное заведение. Здесь возможно «все в одном», т.е. увлеченность патристикой, приверженность католическому социальному учению, верность духу Реформации – в одном и том же евангельском протестанте. Единство рождается в труде и учебе, не в церковных спорах.
Мы увидим новое поколение лидеров, которые не обязательно станут руководителями церквей, но будут авторитетными и влиятельными. Мы увидим смещение центров влияния из церковных канцелярий в учебные заведения, экспертные сообщества, СМИ.
На примере Украинской греко-католической Церкви можно заметить, что для развития Церкви не обязательно начинать движение одновременно по всему фронту проблем, для начала достаточно создать мощный интеллектуальный центр, подобный Украинскому католическому университету. УКУ стал не только образовательным ресурсом УГКЦ, но и центром гуманитарного образования страны, местом притяжения для думающей молодежи, политиков, бизнесменов, журналистов. Это прекрасный пример реализации в одном проекте собственно богословских и миссионерских задач, сочетания интересов Церкви и общества . Интересно, что еще в 1908 году яркий лидер российских баптистов Василий Павлов предлагал создать единый образовательный центр в Украине: «Я того мнения, что у нас для всех народностей должна быть в России предварительно одна семинария… Что касается места для нее, то я предлагаю Одессу… в окрестностях находятся многочисленные русские и немецкие общины» .
Мы увидим много неожиданного – новые церковные формы, межконфессиональные богословские движения, переоткрытияглавных христианских истин, переформат общинности, неподдельный духовный голод и мощные пробуждения, удивительные действия Духа, дары языков культуры и свидетельства. Но все это потребует, и требует уже сейчас, готовности отказаться от привычного, от тени советского прошлого, от шаблонных ответов, от знакомой системы координат.
Надежда и будущее связаны именно с этим внутренним отказом и обретенной свободой движения вперед. Евангельская Церковь должна жить не воспоминаниями о советском прошлом и желанием куда-то вернуться, но радостным исполнением благой Божьей воли, благодарным принятием новых обстоятельств и распознанием в них чудесного провиденциального плана. Выход из постсоветского транзита – не конец, а многообещающее продолжение большой истории евангельского пробуждения в Евразии. Мы не выбираем эпоху и общество, в которых приходится жить, но мы можем принимать все новые обстоятельства как данные Им возможности и открытые перспективы. «Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (Иер. 29:11).
Итак, можно прогнозировать движение в сторону радикальной открытости миру как mainstream церковного и богословского развития, с побочными синдромами изоляционизма — дистанцирования от современности, консервации опыта прошлого и уже привычных моделей служения. Выход из постсоветского транзита потребует не только обновления социальной позиции и миссионерcкой стратегии, но и богословских переоценок, новой герменевтики библейского текста и церковной традиции, в особенности понимания социальной и политической ответственности; учения о «власти», «мире», «культуре»; соотношения духовного и интеллектуального, откровения и науки, мудрости и знания; различения государства и общества, политической ангажированности и гражданской позиции, националистической ксенофобии и здорового патриотизма, социального безразличия и христианского универсализма; преодоления болезненного национального эксклюзивизма и наивного вестернизма, мнимой самодостаточности и некритического заимствовования.
Высказанные рекомендации продиктованы логикой развития евангельских церквей бывшего СССР и актуализируют то, что было предложено великими лидерами евангельского движения Иваном Прохановым, Владимиром Марцинковским, Василием Павловым. Последний определил ближайшие задачи так: «Первая и важнейшая наша задача состоит в проповеди Евангелия. Чтобы достичь этого, нам нужно иметь способных для этого людей. До сих пор у нас были только не получившие образования проповедники… Мы должны дать нашим проповедникам, по возможности, наилучшее образование, чтобы они могли отвечать требованиям времени. Эта потребность указывает нам на нашу вторую задачу. Именно, чтобы мы устроили богословскую семинарию» . Перечислялись и другие задачи: создание и распространение христианской литературы, фонда для помощи церквям и проповедникам, строительство миссионерского дома в Петербурге.
Таким образом, не только вызовы нашего времени, не только шок от будущего, но и предания прошлого, голос традиции требуют от современных постсоветских церквей восстановить нарушенную связь между церковью, миссией, богословием и образованием. Поэтому предстоящий труд по собиранию этих разорванных фрагментов и реконструкции целостной миссиологической картины должен начинаться не с изобретения и новаторства, а с припоминания и продолжения уже начатого, актуализации идейного наследия и лучших прецедентов для нужд нашей эпохи.
P.S.
К постсоветской эпохе можно писать постскриптум. События киевского Майдана, а затем вооруженная интервенция России против Украины поставили точку в затянувшемся постсоветском транзите.
Возникает Евразия как новый проект России, Беларуси и среднеазиатских «станов». Здесь уже нет места атеизму, здесь имеет место причудливая смесь воинственного православия, ислама, славянского язычества. По старому признанию Владимира Путина, православию куда ближе ислам, чем западное христианство . Здесь умалчивается, что православие (мировое) не тождественно православию московскому (РПЦ); но если продолжить логику Путина, то можно сказать и так: православию московскому куда ближе ислам, чем православие Константинопольского или Антиохийского патриархатов. Т.е. Россия полагает себя центром правильной веры, противопоставляя себя не только католицизму и протестантизму, но и православному разнообразию. Вновь и вновь, как мантры, повторяются старые обольстительные слова из XVI века, сказанные московскому государю старцем Филофеем: «Два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать… Един ты во всей поднебесной христианам царь».
Очарованая собственными же мифами об «особом пути», Россия выбрала путь изоляционизма и антивестернизма и пытается сделать все, чтобы на этот путь увлечь своих соседей, воссоздав разновидность евразийской империи.
К большому сожалению, миф об особом пути и антизападный рессентимент стали заразительными для постсоветских протестантов. Вместо трудной интеграции в мировое христианство, они часто выбирают более легкий путь оправдания собственной исключительности и претворения своих недостатков в достоинства: нет богословия – и не надо, нет христианских университетов – меньше умников и дискуссий, нет активной социальной позиции – зато и проблем с государством не будет.
В то же время нельзя говорить, что этот евразийский путь станет единственным. Происходит дифференциация внутри постсоветского мира, внутри общества и Церкви. Отдельные страны — Украина, Грузия, Молдова — выбирают европейский вектор развития. Но и внутри каждой страны, каждой нации, каждой Церкви происходит разделение. Одни делают выбор в пользу постсоветского транзита, а затем евразийского пути. Другие – в пользу европейского поворота, а затем постепенной интеграции в мировое сообщество.
Для евангельской Церкви, ее миссии и образования названные процессы имеют самые серьезные последствия. В евразийском мире евангельские протестанты маркируются как «иностранные агенты». «Америка», «НАТО», «глобализм», «демократия», «Европа», «Реформация», «протестантизм» ставятся в один ряд. Несмотря на все попытки понравиться власти и доказать ей свою лояльность, протестанты России и Средней Азии маргинализируются и государство, и обществом (что еще более значимо).
И здесь снова возникает знакомая для местных протестантов историческая развилка: или мыслить себя и свое будущее в контексте московского православия (и Евразии), или удерживать и развивать связь с наследием Реформации (и Европы). Пока очевидно, что первая связь сильнее второй. В пользу православия работают историческая память (более глубокая, чем «протестантская», уходяющая корнями в тысячелетнее православие и дальше – в славянское язычество), культурный контекст (язык, архетипы, модели мышления и поведения, ценности), политическая целесообразность (максимум лояльности, минимум отличий). В пользу западной традиции – богословские принципы (мало осознаваемые), образование (удел немногих), отношения с мировыми протестантскими структурами (в значительной мере формальные).
Довольно условно можно соотнести православно-евразийский выбор с Россией, а протестантско-европейский – с Украиной. Речь пока не идет о возвращении «русского протестантизма» в православие, в первом случае, или о безаговорочном отождествлении протестантов украинских с европейскими, во втором случае. Скорее, происходит определение вектора, выбор референтной культуры, с которой придется сверять свое развитие.
И здесь, на фоне цивилизационных, политических, религиозных процессов, резко усиливается роль образования. Оно становится уже не вспомогательным для Церкви и миссии, но направляющим. Образование преодолевает социальную маргинализацию и региональную изоляцию, служит каналом для обмена богословским и миссиологическими идеями. Вот почему будущее и надежда связываются с восстановлением связи между Церковью, ее миссией и образованием.
Статья написана в июле 2014 года
Примечания
1. Anderson R. S. The Shape of Practical Theology: Empowering Ministry with Theological Praxis. IVP Academic, 2001.– P. 21.
2. Zawatsky W. Without God we cannot, without us God won’t – thoughts on God’s mission within CIS in the future // Mission in the Former Soviet Union. – Erlangen, 2005. — P. 258.
3. Всеобщее священство. Философско-религиозная тетрадь №7. – М.: «На Руси», 2013. — 84 с.
4. Дмитренко О. Від понеділка до п’ятниці. – К.: Патронат, 2011. – 240 с.
5. Reimer J. Recovering the Missionary Memory: Russian Evangelicals in Search of an Appropriate Missiology // European Journal of Theology. – XXII (2013): 2. – Pp. 137-149.
6. К основаниям и будущему Христовой Церкви. Материалы Третьего Евангельского Собора. – М., 2013. – 60 с.
7. Penner P. Critical evaluation of recent developments in the CIS // Mission in the Former Soviet Union. – Erlangen, 2005. — Pp. 120-164.
8. Бінцаровський Д. Протестантизм без Реформації // Філософська думка. Sententiae. СпецвипускIV (2013). — С. 212-229.
9. Дубровский А. Фундаментализм как тормозящий фактор в развитии евангельских церквей постсоветского периода // Форум 20. Двадцать лет религиозной свободы и активной миссии в постсоветском обществе. Материалы к дискуссия. – К., 2011. – С. 27-45.
10. Манжул В. Верить, чтобы знать. – К.,2013. — С. 23.
11. Christian Smith. The Bible made impossible. Why Biblicism is not a truly evangelical reading of Scripture. – Grand Rapids: Brazos Press, 2011. – P. 7.
12. Walter Shurden. The Baptist Identity: four fragile freedoms. – Macon: Smyth and Helwys, 1997. – P. 59.
13. Райчинец Ф. Своеобразие баптизма: четыре хрупких свободы. – 400-летие баптизма и принцип свободы совести. – Одесса, 2010. — С. 71.
14. Leonard B.J. The challenge of being baptist. Owning a Scandalous Past and an Uncertain Future. – Baylor University Press, 2010. — P. 126.
15. Любащенко В. Протестантизм в Україні: творення стереотипів триває // “Ї”. – 2001. — #22: http://risu.org.ua/ua/index/monitoring/religious_digest/16446/
16. Cherenkov M. Toward Appropriate Missiology for Post-Soviet Evangelicals // Theological Reflections. – 2011. — #12. – P. 49-58.
17. Как справедливо замечает Иоганнес Раймер, экклезиоцентричная миссия направлена на саму церковь, «на освящение и сохранение данного ей Богом состояния»; «цель такой церкви — выжить» (см. Раймер И. Преобразование общества. – К.: ХМЛ, 2007. — С. 35).
18. Гундерсен П. Павел Николаи из Монрепо. Европеец, не такой как все. – М.: ББИ, 2004. — C. 47.
19. Проханов И. Краткая записка о возникновении, развитии и о настоящем положении евангельского движения в России // Проханов И. Новая, или евангельская жизнь. Т. II. – М., 2009. — С. 24.
20. Эпштейн М. Постатеизм, или бедная религия //»Октябрь», 9, 1996, С. 158-165.
21. Петренко В. Власть в церкви. Развитие концепции власти в Русской православной церкви. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. — C. 186.
22. См. интересную статью Андреева Л., Элбакян К. От Бога ли Закон Божий // Независимое военное обозрение. 07.03.2012 (http://nvo.ng.ru/history/2012-03-07/7_zakon.html).
23. Исключение составляют книги Виктора Петренко, Андрея Мурзина, Дона Ферберна, см. Мурзин А. Диалог с православием. – К., 2013. – 144 с.; Петренко В. Богословие икон. Протестантская точка зрения. – СПб., 2000. – 192 с.; Ферберн Д. Иными глазами. Взгляд евангельского христианина на восточное православие. – СПб., 2008. – 277 с.
24. Павлов В. Начало, развитие и настоящее положение баптизма среди русских // Павлов В. Баптисты: церковь и государство. – М., 2004. — С. 85.
25. Проханов И. Краткая записка о возникновении, развитии и о настоящем положении евангельского движения в России // Проханов И. Новая, или евангельская жизнь. Т. II. – М., 2009. — С. 25.
26. Среди успешных протестантских инициатив в построении христианского университета стоит отметить LCC. Его внеденоминационный статус дает много преимуществ для развития учебных программ, но богословское влияние и контакты с церквями довольно ограничены. К тому же с вступлением Литвы в Евросоюз LCC оказался вне постсоветского пространства, а соответственно недоступным для многих в силу культурной, финансовой и визовой политики.
27. Павлов В. Начало, развитие и настоящее положение баптизма среди русских // Павлов В. Баптисты: церковь и государство. – М., 2004. — C. 94.
28. Путин заявил, что православные христиане ближе к не христианам, чем к другим христианам, http://www.protestant.ru/news/politics/inrussia/article/66837 (Дата обращения 18.07.2014)