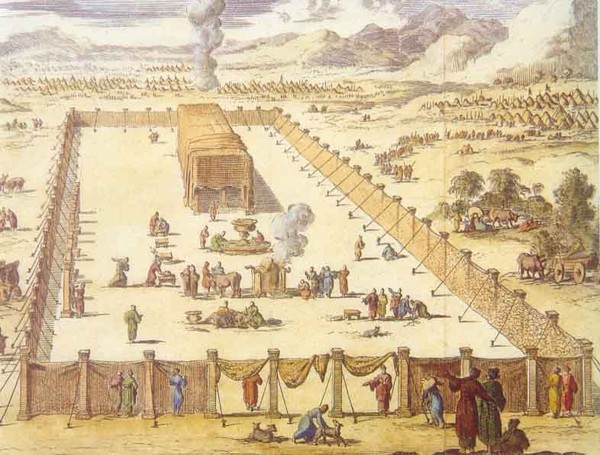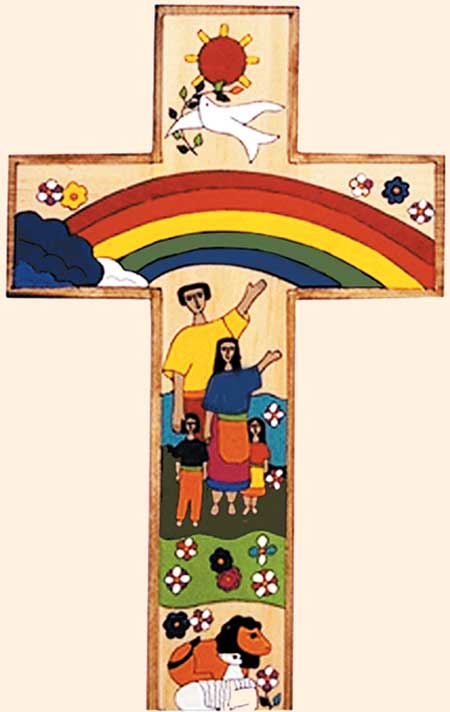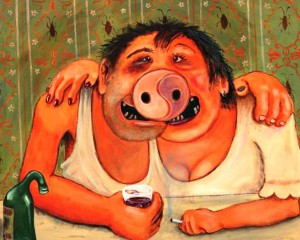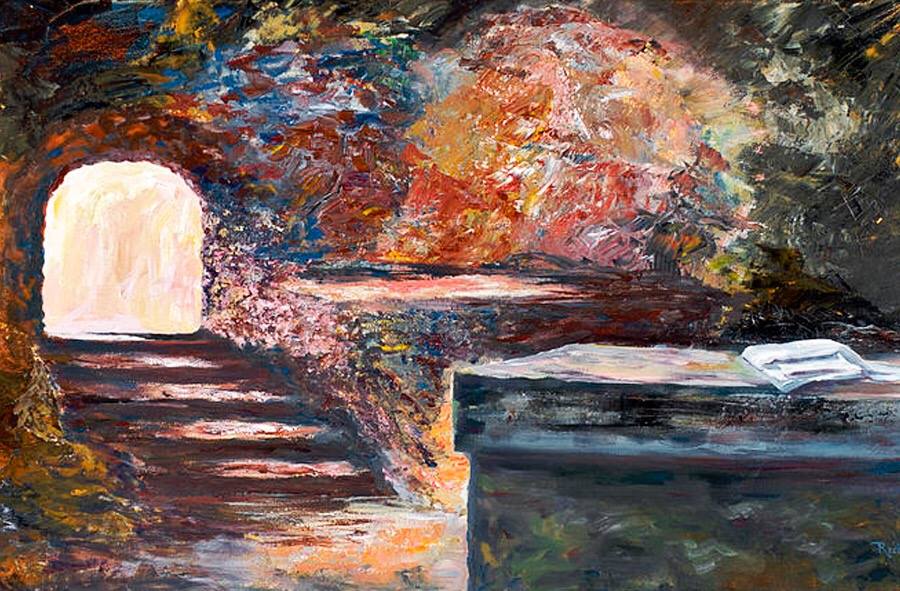Что значит «христианское влияние»?


Я убежденный сторонник доброго и сильного христианского влияния на общество, при этом стоит задавать вопросы о том, что значит «доброе», «сильное», «христианское».
Говоря «доброе», стоит думать не только о личном или корпоративном, но именно общем благе.
«Сильное» – не значит грубое и насильственное, сила может быть мягкой и светлой. Мы можем быть сильны любовью, добрыми делами, убежденностью, верностью, культурой.
«Христианское» — это больше, чем «церковное»; шире, чем конфессиональное. Здесь речь не столько об организациях, институтах, традициях, сколько о духе, движении, ценностях. Скажем так: настоящее христианство всегда будет стремиться к тому, чтобы отразить в себе и Церковь, и Царство; чтобы удерживать свою церковность и при этом все больше открываться Царству.
То, что служит Царству может быть всегда названо христианским. Увы, не все из нашего конфессионально-церковно-христианского сочетается с масштабом и характером Царства Божьего.

Вот свежий пример. Крымчанка Джамала побеждает на Евровидении. Ее песня-молитва показывает совсем иной стиль и подход к творчеству, чем гламурный, слащавый, сексапильный стандарт конкурса. Она открыто заявляет о своей вере в Бога, она искренна в своей любви к крымско-татарскому народу, она скромна и богобоязненна.
Я увидел в ней человека Царства, чтущего Бога изнутри своей традиции. Но тут же получил упрек «Но она же мусульманка, зачем в одну кучу «коней и людей»?».
Честно говоря, я не уверен, что могу кого-то назвать «конями» и оставить себе «людей». Но очевидно, дело в другом, в разном понимании наших задач в отношении общества. Они могут быть узкими – продвигать христианское как «свое» — или предельно широкими, когда я понимаю себя как малую часть большой Божьей работы в мире. Как я уже сказал выше, я за «общее благо», за «мягкую силу» и за «интересы Царства». Победа Джамалы удовлетворяет всем трем критериям. Немного жаль, что она не христианка (ведь нам так хочется, чтобы все лучшие принадлежали нашему лагерю и чтобы мы были лучшими!), но надеюсь, что ее добрый пример вдохновит многих христиан на подобное творческое служение своему обществу.
Еще один пример. В прошлом году я был спикером на закрытой встрече миссионеров из стран Северной Африки и Ближнего Востока. Я рассказывал им о нашем Майдане, о чуде, когда мы были частью Божьего Царства, когда Бог открывался «посреди нас», в гуще социальной жизни. Я переживал, что мои чувства останутся не понятыми. И зря. Христиане из Египта отреагировали очень бурно: «Мы видели подобное на площади Тахрир. Там частью Царства были не только мы, христиане, но также и мусульмане. Это было тогда, когда мы молились друг за друга и за мир в нашей стране. Это было тогда, когда христиане защищали мусульман. И это было тогда, когда мусульмане окружали живой цепью церкви и верующих, защищая их собой от фанатиков». Признаюсь, о последнем я не знал и не думал. А было и такое. И что это было, как не Царство Божье, которое охватывает не только Церковь, но и мир в целом, каждую пядь земли, все сферы, все социальные группы? Мы не поймем, что значит «христианское влияние», если не откроемся Царству, если не увидим себя его частью, если не смиримся, что оно не «их» и не «наше», но Божье.