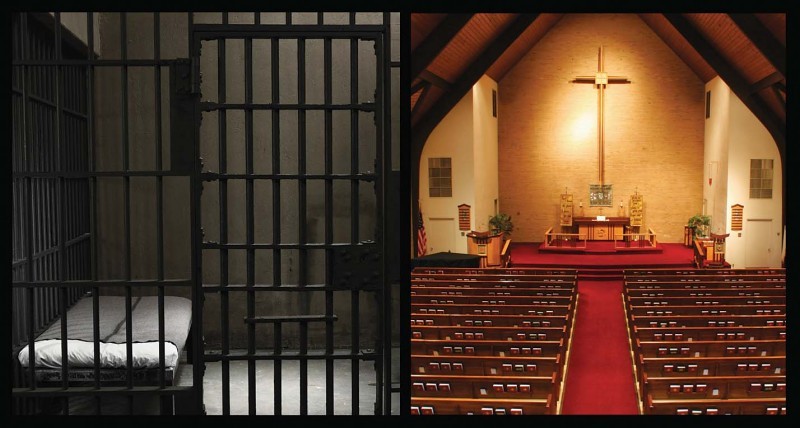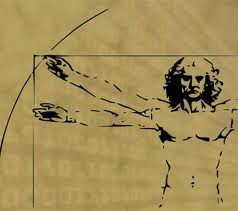religion.in.ua
Настоящее время ознаменовалось тем, что многие важные дискуссии обрываются и закрываются, или уже закрыты. Это часть более общего процесса культурной деградации. Но также признак более страшной болезни современного человека – его ужаса перед открытостью, неразрешенностью, вопросительностью бытия, в том числе бытия собственного.
Человек закрывается сам и закрывает свои проекты, вводит себя в комфортное, успокаивающее состояние «пост». «Пост» позволяет сохранить вопрос, но как такой, что смысла не имеет. Никакой интеллектуальной и духовной напряженности здесь не требуется. Христианство становится постхристианством, философия – постфилософией. И вот уже Оксфордский словарь называет словом года слово «постправда» (post-truth) [1].
Тем важнее поддержать открытость как особый режим жизни и мышления, как настроенность на «послание, весть из миру должного в мир сущего» [5, 21].
Такой способ вопрошания обычно называют философским, хотя по этому пути идут и многие честные богословы, для которых не только человек, но и сам Бог – «открытый вопрос».
Как замечал Сергей Крымский, «Философия, в отличие от других дисциплин, ставит вечные вопросы во всей их загадочности и таинственности. Поэтому она является не только просвещением предельных вопросов человековедения, но и свидетельством их таинств [5, 10]. Полагаю, с этим согласятся и богословы, по крайней мере, некоторые из них. Если мысль не столько схватывает, сколько свидетельствует о таинственности и тайне человека, то уж конечно, «Мир в вопросах ближе к своей аутентичности, настоящести и самотворчеству, чем в ответах, которые направляют сущее, схематизируют его разнообразие, ориентируют не на бытие как океан возможностей, а на причалы его гаваней» [5, 4].
В то же время богословам по долгу службы хотелось бы закрыть многие вопросы, связанные с человеком (а разве есть вопросы, с ним не связанные?); хотелось бы покончить с неудобными и неподатливыми противоречиями, и снять их в единой богословской системе или «сумме». Преодолеть это богословское искушение и оставаться в состоянии бодрствующем помогает сотрудничество с философией, точнее с философами. Именно они, при всей неоднозначности своего отношения к христианству и его богословским традициям, выступают наиболее последовательными защитниками «открытости» человека и представлений о нем.
Совсем недавно этот вопрос о человеке обострил Анатолий Ахутин, для которого «вера это узнавание себя стоящим под вопросом Бога, который сам открыт как вопрос. Вопрос этот отнюдь не богословский, не вопрос о Боге, это вопрос Бога, открываемый человеком в самом себе. Задача узнавания себя знанием непостижимого Бога открывает божественную непостижимость в средоточие человеческой самости. Таково первое, что человек узнает о себе. Но это раскрытие отдаленнейшему происходит, однако как интимный разговор почти с самим собой» [2].
Здесь богословие обнаруживается изнутри философского вопрошания, здесь мысль доходит до оснований и умолкает в благоговении перед их тайной. «Основание может быть сообщено человеку, но не может быть подведомственно ему, сообщение предполагает не общение в мысли, а внимание преданию и практическое приобщение» [2]. Здесь, в собственной глубине человек находит те самые сообщения, вести, откровения, которые подлежат осмыслению и обсуждению, хотя об происхождении он сказать не может ничего. Он должен спрашивать и говорить о себе.
Бог не подлежит моему (о)суждению. Бог не отвечает мне о Себе, Он отвечает мне обо мне.
В этом смысле человек – это тот, кто задает вопросы о себе. Человек под вопросом. Человек-вопрос. Для Анатолия Ахутина гуманистическое понимание человека соединяет в себе античные, христианские, секулярные традиции, но в предельной простоте сводится к открытому вопрошанию: «Нет никакого европейского гуманизма или рационализма, никаких «естественных» эпистемо- или гносеологий, есть непрестанное вопрошание о том, что значит быть (или становиться) человеком, что значит мыслить, что значит справедливость, красота… Что происходит в откровении, приоткрывающем сокровенное? Как определяется то начало, откуда незримые вещи становятся зримыми, определимыми? Европейский гуманизм утверждает достоинство человека не в какой-то его определенности, а в его все-возможности, в работе вопрошающего, определяющего и переопределяющего самоосмысления» [2].
Но вот беда: «Это самовопрошающее бытие поставлено теперь под вопрос бытия практического, причем с двух сторон: прагматически «западного», науко-технического, позитивно методологического, или прагматически «восточного», традиционно-культового, где место ответственной инициативы занимает фатально решающая инициация» [2]. Соответственно возникает вопрос, совместимо ли гуманистическое вопрошание человека о человеке с определенностью конфессиональных традиций и догматических схем. Спросим иначе: может ли открытому гуманизму соответствовать открытое христианство?
Спросим еще вот о чем: способны ли открытый гуманизм и открытое христианство предложить свою версию истории как открытой истории. Ведь вопрос о гуманизме, вопрос о человеке как вопросе – вовсе не праздный для его будущего. Открытость, вопросительность, незавершенность человека связаны с его самоопределением в истории, с его отношением к истории как сфере самоосуществления, «самотворчества», с пониманием истории как места встречи с Богом и совместного с Ним «проекта». Вопросы испытывают свободу и размыкают историю.
В этом смысле любой «конец истории» антигуманен и оборачивается кошмаром. Поэтому в своих размышлениях о президентских выборах в США Ален Бадью констатирует, «мы оказались в точке примитивного убеждения, что… это единственно возможный путь для современного человечества. Что этот путь и определяет нашу человеческую субъективность. Чем в такой перспективе становится человек как субъект? Дельцом, потребителем, собственником, или ничтожеством, не умеющим покупать и продавать. Вот теперешнее строгое определение человека. Таково общее видение, общая позиция, общий закон современного мира» [4].
Чтобы этот путь не стал смертельным тупиком истории, нужно действовать, а для Бадью «лучшее действие — вернуться к подлинным противоречиям, к истинному выбору — к реальному стратегическому выбору между теми или другими ориентирами человечества” [4]. Жаль, что это написал философ-марксист, а не христианин. Гуманизм открытых вопросов должен стать тем естественным фоном, на котором мировоззренческий и любой другой выбор может совершаться свободно и безопасно, на котором задающий вопрос не будет выглядеть глупцом или самоубийцей.
Таким глупцами или несмысленными машинами мы хотели бы видеть героев современного сериала “Западный мир” (Westworld). Между тем, к их вопросам и рефлексиям о себе стоит прислушаться.
«Когда я был маленьким, у меня были только книги. Я жил в них. Когда я засыпал, то мечтал, что проснусь в одной из них, потому что там был смысл. Здесь я как будто проснулся в одной из тех историй. Я хочу понять ее смысл», — признается Вильям, визитер из реального мира. «Я не хочу быть в истории. Я хочу не смотреть ни вперед, ни назад. Просто быть там, когда я есть», — возражает ему женщина-андроид Долорес.
Или вот еще одна из ее фраз: «Иногда я чувствую, как что-то зовет меня. Будто мне где-то есть место. Где-то за пределами».
Разве не знакомо и нам это чувство? Разве не этим чувством, обращенным по ту сторону, припоминается, удерживается и возгревается человеческое в человеке?
Здесь вспоминаются горячие дискуссии шестидесятых. Согласно Сартру, “Субъект или же, если хотите, субъективность существует с того мгновения, когда наличествует усилие к преодолению данной ситуации при сохранении последней. Настоящая проблема — проблема выхода за пределы. Философия представляет усилие тотализируемого человека, чтобы вновь овладеть смыслом тотализации. Сутью является не то, что мы делаем с человеком, но что он делает с тем, что мы делаем с ним. Философ — некто, кто пытается мыслить это преодоление” [6].
Увы “овладеть смыслом”, “делает”, “тотализация” – риторика самоуверенных представителей самодостаточного, закрытого гуманизма. Смысл не дается в овладевающем усилии. Режим объективирующего познания позволяет видеть слагаемые, но не связи и целостность. Об этом Сартру пессимистически отвечал Фуко: “Были надежды и мечты, связанные со следующим эсхатологическим мифом: сделать так, дабы познание человека было таким, чтобы с его помощью человек мог быть освобожден от своего отчуждения… Иными словами, мы делали из человека объект познания, чтобы человек мог стать субъектом своей собственной свободы и своего собственного существования. И впоследствии человек испарялся по мере того, как мы пытались его отслеживать в его глубинах. Чем дальше мы заходили, тем меньше мы находили” [7].
Так изучали бессознательное, потом язык. Но найти внутри человека то, что делает его человеком так и не удалось. Поэтому для объективирующей науки человек как субъект свободы исчезает. Исчезает тот человек, который соизмерял себя с Богом (иногда в послушании, иногда в противлении). В результате, по признанию Фуко, “Горизонт был опрокинут. Он внезапно бы стерт, и мы оказались перед своего рода огромным пустым пространством” [7].
Может ли человек выйти за пределы того, что создал сам? Может ли сохранить в себе ту удивительную способность вопрошания, которая так выделяет его из мира? Гуманизм – это открытость вопросам и вопрос об открытости. Это выбор – постоянный, обновляемый, свободный, неожиданный. Это возможность нового и радость творчества. Это устремленность за пределы. Это томительное ожидания вести, голоса, гостя оттуда.
Очевидно, что постсекулярному обществу должен соответствовать открытый гуманизм, так как секулярному соответствовал гуманизм исключающий. Стоит сказать и больше: открытость должна быть не столько характеристикой гуманизма, сколько местом, средой, социокультурным пространством где он может быть осмыслен. Открытость должна быть способом жизни общества, хотя бы его философских и богословских элит. В этом смысле Анатолий Ахутин говорил о Европе как о «форуме» и о европейском человеке как о «человеке общения разных культурных миров», «озадачивающемся своей человечностью» [3, 6-7]. Вопрос сегодня лишь в том, кто из философов и богословов не побоится этой открытости и согласится поучаствовать в этом форуме, рискуя попасть под перекрестный огонь отпетых секуляристов, циников от науки и всевозможных религиозных фундаменталистов.
Литература
1. Word of the Year 2016 is… // https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
2. Ахутин А. HOMO EUROPAEUS . Рукопись
3. Ахутин А. Европа – форум мира. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015.
4. Бадью А. Размышления о последних выборах // http://gefter.ru/archive/20015
5. Кримський С.Б. Запити філософських смислів. – К., 2003.
6. Сартр о структурализме // http://syg.ma/@nikita-archipov/sartr-o-strukturalizmie
7. Фуко отвечает Сартру // http://syg.ma/@nikita-archipov/fuko-otviechaiet-sartru