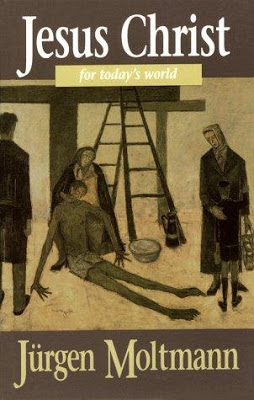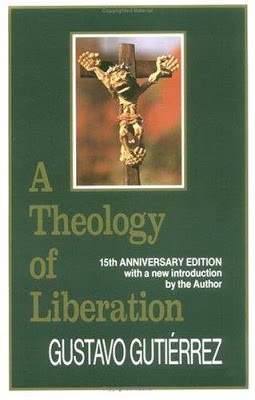![Личность, общество, государство. Социально-богословская перспектива, украинские реалии]()

Отношения личности, общества и государства переживают очередную стадию неопределенности. Очевидно, зреет их новая связь, которая не станет для всех приемлемой, но попытается стать доминирующей и нормативной. В отсутствие развитого гражданского общества и сформированной «культуры личности» возникает спрос на сильное государство и «культ личности». Удивительным и роковым образом «крах политики мультикультурализма» в Европе и торжество российской «суверенной демократии» совпадают с внутренней слабостью всех трех частей рассматриваемой «украинской связки» – личностно ориентированной культуры, гражданского общества и национальной государственности. Эти совпадения усиливают соблазн антидемократического поворота в украинском обществе. И в этом поворотном моменте роль Церкви оказывается максимально значимой – не закрывая глаза на риски демократии, предупредить об опасности ее циничного высмеивания и последовательного разрушения.
Украинские Церкви лишь формируют христианскую повестку дня для окружающего общества, в то время как мировое христианство уже в прошлом веке пережило страстное увлечение социальным евангелизмом и реформаторством, и вошло в третье тысячелетие с трезвым осознанием своих ограничений в проектировании богословия на социальную жизнь.
После головокружительных успехов и столь же головокружительных разочарований социальное богословие остановилось на следующей позиции, которую можно считать общей для основных конфессий: не предполагая революционных способов построения Царства Божьего на земле, усилия христиан должны быть сосредоточены на сохранении и проявлении евангельских истин и ценностей внутри существующего социального порядка. Образ закваски, заквашивающей все тесто (Матф. 13:33), для современных христиан оказывается близким и понятным. После болезненных и неудачных внешних либеральных, лево- или праворадикальных преобразований, христиане готовы смириться с ролью внутреннего, незаметного фактора.
Реалистичная социально-богословская перспектива предполагает не смену «секулярного» социального дискурса на «христианский», но насыщение социального христианским и одновременно с этим, переосмысление христианского в свете социального. В связи с этим хочу предложить один тезис, из которого может исходить социально-богословская позиция: общество является не только сферой жизни и христианского свидетельства, но и средой Откровения, средой Божьего Присутствия. Это меняет и социально-богословскую и миссиологическую перспективу. Если раньше христиане исходили из Церкви в своем движении к миру как внешнему, если раньше христиане несли Слово из Церкви в мир, то сегодня помимо этого, не оставляя этого, они должны видеть большее, как и где Бог открывается и действует в мире, чтобы присоединиться к Нему.
Не только человек был оправдан Воплощением, но и общество, история, культура, мир в целом несут в себе знаки обожения как действия и дара Вочеловечившегося Бога.
Общество в социально-богословской перспективе рассматривается как школа человечности в ее социальных качествах, как среда формирования характера, осуществления призвания, распознания своей миссии в мире. Более того, общество представляется такой системой знаков, в которой закодировано откровение Бога людям.
Если естественная теология рассматривает природу как «великую книгу» Бога, то теология социальная такой книгой может рассматривать общество. «Общим откровением» нужно считать не только природу, но и общество, т.е. «общим откровением» будет сотворенный мир в целом. При таком понимании социальная реальность более не рассматривается как внешняя, Царство Божье присутствует и в ней, прорастая изнутри.
В такой внутренней социально-богословской перспективе личность, общество и государство увязаны не гармонической, а конфликтной, динамической связью. Церковь не предлагает единой гармоничной модели, но предлагает определенный порядок приоритетов и при нем многообразие вариаций. Первой в этом порядке будет личность, против которой не могут грешить самые «правильные» формы общественной жизни и государственного устройства. Напротив, последние должны ориентироваться на ценности первой и служить им.
Личность не единична, она всегда предполагает и другого, другую личность. Так внутри понятия личности содержится и понятие общения, общества, общинности, соборности. Человечество в своем развитии преодолевает как стереотипы коллективизма, так и соблазны обостренного индивидуализма. По ту сторону открывается перспектива новых форм общности, которые не основываются на индивидуальностях как их обобщение, но имлицитно присутствуют в каждом индивиде как возможность трансперсональной идентичности, как возможность такого «мы», где «я» и «ты» остаются свободными и своей свободе становятся вторичными ради «мы».
Личность «я» и личность «ты» в диалогичности отношений образуют первичную социальную связь. Но у этой связи есть и духовная основа, есть интуиция Третьего, присутствие которого обязывает к должному. Есть и сугубо инструментальная часть в соотношении «я», «ты», «мы», «они» – государство как организационно-регулятивная форма отношений. Приоритет личности, духовные основы общества, инструментальная роль государства – ключевые понятия в социально-богословской перспективе.
В такой перспективе государство принципиально не сакрально, более того, оно не обладает какой-либо особой сущностью, оно именно инструментально. Техническая роль государства кажется неприемлемой для поборников традиционализма, теократии, цезарепапизма или папоцезаризма и проч. Служебная, обслуживающая, вспомогательная роль государства в его отношении к обществу; равно как защищающая, гарантирующая роль в отношении к личности гражданина, — изобретение демократии. И в этом пункте демократическое понимание связи личности, общества и государства получает свое социально-богословское оправдание.
Христианство исторически засвидетельствовало свою Богом данную уникальную способность выживать при любых формах государственного и общественного устройства. Но лишь в демократическом обществе социальный потенциал Церквей может быть реализован наиболее полным образом. Напротив, при тоталитарных режимах социальный образ Церкви деформируется, Церковь фокусируется, в первую очередь, на собственном выживании, и общество лишается ее участия. Можно уверенно сказать, что в подобных экстремальных условиях Церковь выживет и останется верной своему призванию, но общество потеряет то, чем Церковь могла бы ему послужить.
Наблюдая за кризисом демократии, за ее внутренней эрозией и ожесточенной критикой ее со стороны, многие богословы задаются вопросом о возвращении в средневековье, к более строгим и эффективным формам управления обществом. Но, доверяя мудрости Бога, мы можем увидеть вполне определенный провиденциальный смысл, Божью волю в историческом развитии. Демократия со всеми ее рисками может быть оправдана как необходимость для личностного и цивилизационного развития. Мир в его нынешнем социально-политическом, экономическом и религиозном многообразии может существовать лишь благодаря демократии.
Демократия как оптимальный на данное время способ связи и взаимного определения личности, общества и государства, знаменует собой степень зрелости человечества, пытающегося нащупать баланс индивидуальных и общих интересов, развития и стабильности, конкуренции и справедливости. При этом очевидно, что демократия как тип социального дискурса, как способ мыслить и строить социальные связи, также является технической, инструментальной частью сложившегося порядка. Ее нельзя онтологизировать, ее нельзя абсолютизировать.
В социально-богословской перспективе можно увидеть и апологию демократии, и трезвое понимание ее относительности, условности. Нынешние формы связи личности, общества и государства могут быть лишь поисками человеческих соответствий евангельским идеалам. Если на настоящий момент эти социальные формы наиболее адекватны, они могут получить социально-богословскую поддержку, но при этом останутся лишь тенью грядущего Божьего Царства. Можно ругать личность, общество и государство за их несовершенство, но гораздо полезнее поддержать в них то, что несет в себе провиденциально обусловленное развитие, надежду и чаяние иного будущего.