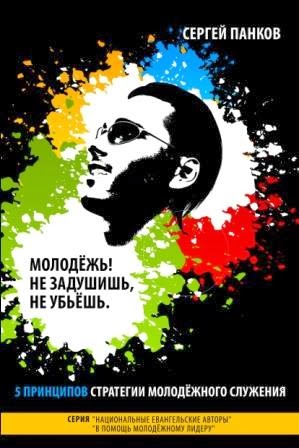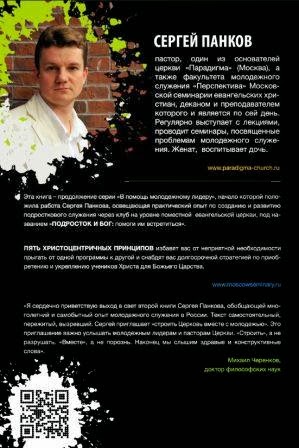![Тот случай, когда риск оправдан. О новой книге Сергея Панкова]()
О книге Сергея Панкова «Молодежь. Не задушишь, не убьешь» (М., 2013. Серия «Национальные евангельские авторы. В помощь молодежному лидеру»)
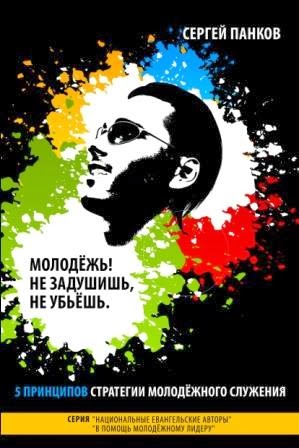
Есть случаи, когда риск оправдан. Когда даешь воды незнакомцу, который окажется твоим врагом. Когда учишь студента, который станет злым гением. Когда прыгаешь в воду, спасая непослушного ребенка.
Меня восхищает посвященность тех, кто отдал свою жизнь рискованному делу воспитания. Сколько нужно веры, терпения, сил, любви, чтобы из своевольных и неотесанных недорослей получились яркие и подготовленные лидеры-слуги!
Я сердечно приветствую выход в свет второй книги Сергея Панкова, обобщающей многолетний и самобытный опыт молодежного служения в России. Текст самостоятельный, пережитый, вызревший.
Меня подкупает авторская симпатия к тем сторонам молодежного характера, которые обычно раздражают.
Как правило, говорят: молодые люди не глубокие, легкомысленные, переменчивые. Автор же призывает видеть глубже, понимать причины: «Поколение Y видело не только хорошее, оно стало свидетелем многочисленных терактов. Отсюда ощущение хрупкости мира, краткости жизни и эфемерности бытия. Все, чего ты добился, может быть разрушено в один миг. Так не лучше ли жить в свое удовольствие, попробовать и успеть многое, пока мир не полетел в тартарары!?».
Часто утверждают: молодежь не способна к созданию крепкой семьи. Автор же поясняет: да, молодые люди эгоцентричны, но они не против семьи, любви, верности; они хотят лишь свободы и настоящих, не навязанных кем-то отношений.
В то время как главный слоган поколения Y — «Мы сами пробьемся, мы сами достигнем», — воспринимается большинством с праведным гневом, автор предлагает направить активность, энтузиазм, таланты молодого поколения в созидательное русло.
Но для того, чтобы недостатки обратить в достоинства, чтобы сформировать из «материала» зрелого лидера, нужно рисковать и инвестировать.
Сергей признает, что «молодёжь – материал отнюдь не простой. Молодые люди максималистичны, их девиз: «Либо всё, либо ничего!», и потому они требуют от нас полной посвященности, не слов, а дел, они чувствительны к любой фальши». Эта сложность, прямота, максимализм отпугивают священнослужителей и возможных наставников. Так Церковь остается без молодежи, а молодежь вне Церкви.
«Обычно находится не так много охотников по-серьёзному вкладывать себя в молодёжь. Ведь никто не может дать гарантию качественного результата». Это не преувеличение, это констатация фактов.
Молодежных наставников – единицы. Риск отпугивает. Но в работе с молодежью ставка столь высока, что риск становится благородным и оправданным.
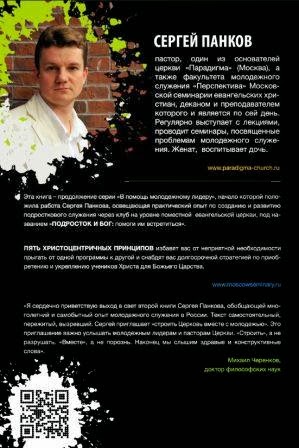
Автор разоблачает мифы о молодежном служении и показывает его малоизвестную, реалистичную сторону: это не развлечение, не программы, не «подготовка к настоящему («взрослому») служению», не «отдаленное будущее», а полноценное служение и жизнь Церкви, ее сегодняшний день и ее послание современному миру.
В то время как одни призывают очистить Церковь от «пустой» молодежи (и это я слышу не только в традиционных, но и в современных общинах), держать ее в «ежовых рукавицах» и «страхом спасать»; другие зовут подальше от Церкви, в молодежную «малину», вольную среду, где можно делать что хочешь и верить как хочешь.
Сергей Панков приглашает «строить Церковь вместе с молодежью». Это приглашение важно услышать молодежным лидерам и пасторам Церкви. «Строить», а не разрушать. «Вместе», а не порознь. Наконец мы слышим здравые и конструктивные слова!
Ну и последнее. В отличие от терпеливого Сергея, который усыпал свой текст аргументами, я не собираюсь переубеждать тех, кто повторяет: инвестировать в молодежь – рискованно. Я в ответ не буду отвечать, лишь спрошу: а что, разве у нас есть выбор?