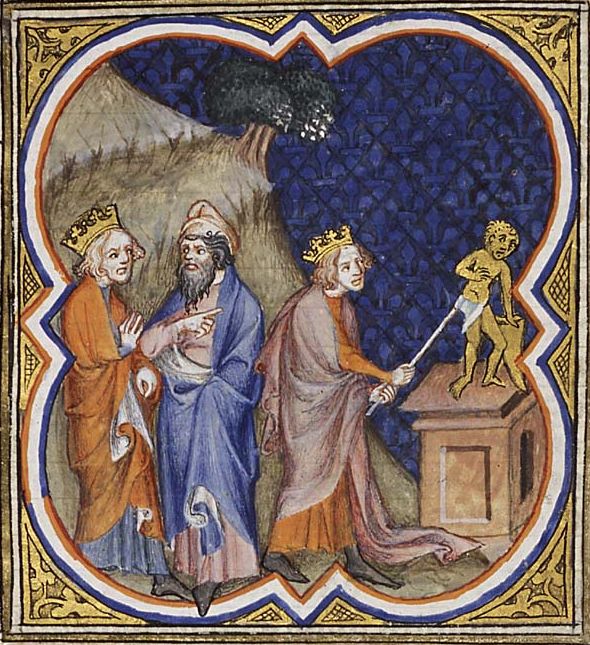![Многообразная Церковь как альтернативное общество]()
religion.in.ua
Богословский поиск в контексте постсекулярных социальных теорий
Церковь осмысливает себя в зеркале социальных перемен и соответствующих им социальных теорий. Но что церковь может предложить взамен, как альтернативу, как пророческий вызов, как свою повестку дня? Социальные теории должны учитывать особую роль церкви и ее понимание общества. А церковь должна не только принимать социальный контекст, но и оспаривать его, причем должна быть готовой выступать и как «моральное большинство», и как «пророческое меньшинство». Одним словом, церковь должна слушать и отвечать, но без повторений и подражаний, как ценный и самостоятельный собеседник.
Такая модель постсекулярного диалога приемлема и для социологов вроде Питера Бергера, и для богословов вроде Йозефа Ратцингера. Но если этот диалог не превращать в бесконечную игру, то чем он сможет быть еще полезен? Прежде всего обменом эксклюзивными идеями и вещами. В этом смысле церковь может и должна быть альтернативой. Тогда и только тогда она может выделяться и быть интересной.
В частности, для того, чтобы церковь могла быть воспринята как альтернатива, она должна показать на себе пример того, как плюрализм может быть цветущим и ненасильственным. Секулярность и постсекулярность создают для этого хорошие условия – освобождая церковь от соблазнительных преференций, исторической обусловленности и чрезмерной контектуализации.
И здесь нам пока есть чем похвалиться. Как замечает Хосе Казанова: Украина «приблизилась к американской модели религиозного деноминационализма», где «деноминация» — это просто обозначение добровольного религиозного сообщества», т.е. где «речь идет о системе взаимного признания общественных групп без их признания или регулирования со стороны государства» (2, с. 10).
Мы приблизились, но еще не там. Мы вполне можем потерять то, чем можно хвалиться. Руководствуясь благими намерениями, но действуя не по рассуждению, мы можем разрушить свое уникальное религиозное многообразие, растерять свой уникальный социально-религиозный капитал. В этом контексте разговоры о «единой поместной» выглядят как покушение на удивительно богатое украинское разнообразие церквей и традиций.
Но и само разнообразие может обесцениваться, если не будет движимо к некоему единству, если не будет подпитываться глубинным истоком, если будет привязываться лишь к текущему моменту или какой-то идеализированной временной ситуации. В этом смысле стоит услышать Кюнга: «Историчность недооценивается экклезиологией, традиционалистскипонимающей себя как нечто неизменно пребывающее; именно такая экклезиология подпадает под иго мира сего и уже сгинувшего времени. Та же самая историчность не признается экклезиологией, модернистскиподстраивающейся под сиюминутность нынешнего мира; она тоже отрекается от самой себя в прискорбном непостоянстве. Как экклесия, так и стремящаяся выразить ее самопонимание экклезиология, не должна обрекать себя на жесткую привязку к какой-либо конкретной ситуации – прошлой, настоящей или будущей» (3, с. 30)
Следовательно, «Экклезиология должна и может определяться именно исторически, ориентируясь на исток экклесии… Он скрывается в совершенно конкретном, «установленном» учении церкви: он задан спасительным действием Божиим через Иисуса Христа в истории… Сохранить верность исконной сущности церкви в исторически меняющемся мире можно не в состоянии неподвижности (Immobilismo), а лишь в ритме «оживленно» (Aggiornamento): в постоянных заботах о новом дне (giorno), в постояной готовности к переменам, трансформациям, новым реформам, к обновлению, радикальному переосмыслению» (3, с. 31).
Лишь тогда – освободившись от момента ради полноты истории, «отплыв на глубину», церковь обретается собственную свободу для исторического творчества и влияния на общество. В частности речь идет об альтернативных формах социальной организации, о взаимоскрепляющих связях, в которых возможны и сообщества в их своеобразии, и общество как целое.
Ситуация постсекулярности создает прекрасные возможности для того, чтобы церковь освободилась от несвойственных ей функций и лучше осмыслила свою актуальную роль в общественных дискуссиях.
Здесь стоит вспомнить показательный диспуст Хабермаса и Ратцингера. Согласно Хабермасу, именно сегодня «содержание библейских понятий выводится за пределы религиозного сообщества и становится достоянием инаковерующих и неверующих» (6, с. 68), а потому «в интересах конституционного государства бережно обходиться со всеми культурными источниками, на которых основываются осознание гражданами норм и сама солидарность между ними» (6, с. 68-69). Тут же, откликаясь на приглашение к дискуссии, спешит сказать свое слово Йозеф Ратцингер: «Несомненно, главными партнерами в этой «коррелятивности» становятся христианская вера и западная секулярная рациональность» (6, с. 106). Таким образом «секуляризации общества» оба видят «взаимодополняющий процесс обучения» (6, с. 70).
Секуляризация освобождает церковь от мнимого монополизма. Лишь из свой свободы церковь может вносить элемент инаковости, как несколько пафосно говорит Мольтман, «переносить христианское, т.е. освобождающее и искупительное понимание любви на различные уровни социальных отношений» (4, с. 298). И более конкретно о формах общности: «Если искать альтернативу индивидуализму и централизму современного общества, ею может стать формирование низовых сообществ на уровне местных, самоуправляемых и жизнеспособных муниципалитетов или общин, которые способствуют личному росту людей» (4, с. 302). Здесь речь идет об открытом христианстве, которое начинается в церкви, но несет свое освобождающее влияние на все сферы общества.
Но что значит свобода для церкви и в церкви? Церковная модель может показать обществу как свобода совмещается с порядком, ведь именно церковь стала таким глобальным сообществом, в котором разнообразие приняло мирные и упорядоченные формы.
Соглашаясь с тем, что «Церковь разнообразна по своей сути», Кирилл Говорун уточняет: «Взаимодействие с современной жизнью и признание и восприятие многообразия в церкви не есть и не были хаотичными. В церкви многообразие структурировано согласно определенными критериям. «Я» церкви можно расположить в система координат, которые помогают проследить и оценить траектории ее самоосознания. Оси этой системы – это единство и отношения, а точка отсчета – сам Христос» (1, с. 247-248).
Оставляя в стороне мистическое измерение, стоит осмыслить и единство, и отношения как темы социальные, в которых имеет место человеческий фактор. Тем важнее понять, что такие «Отношения возможны только при наличии риска ошибок и неудач. Возможность человеческих ошибок и неудач делает церковь столпом и утверждением истины (1 Тим. 3:15). И напротив, сведение на нет человеческой свободы в жизни церкви делает церковь уязвимой к ошибкам» (1, с. 250-251).
Уже простое принятие человеческой свободы с ее рисками делает церковь открытой к обществу и другим сообществам веры, делает возможным и оправданным эксперимент с формами и традициями церковности, с форматами и моделями церковно-общественных отношений.
Ведь этот рискованный опыт не только причиняет боль и потери, но обогащает и учит церковь в целом, в совокупности ее членов и групп. Интересно видеть, как христианские меньшинства задаются вопросом о своей инклюзивности и своей причастности к большему.
Так меннонитский историк Вальтер Заватски призывает свою церковь быть «более широкой» («the broader church”) и «глобальной» (the global church), и для этого рекомендует более «благодарное принятие всей христианской истории» (5, с. XI). Он задает непростой вопрос, который могут повторить не только малые, но и большие церковные традиции: «Что мы имеем ввиду, говоря о глобальной церкви? Если мы всю нашу историю воспринимали христианство в общем как отступническое, осуждая его как «Константинианский компромисс», то неужели мы до сих пор думаем, что именно наш малый остаток «тела Христова» образует собой глобальную церковь?» (5, с. IX).
Сможет ли церковь восстановить свою радикальную открытость и широту, свое единство в многообразии, чтобы стать альтернативой для разделенного и конфликтующего мира? Можно спросить иначе: сможет ли церковь рискнуть и пройти горнило секулярности, чтобы вернуться в общество измененной? Выход в состояние «пост» открывается лишь для тех, кто решился пройти предыдущие стадии и вынес из них уроки.
В этом смысле стоит прислушаться к сторонникам теории десекуляризации, которые полагают, что она наиболее адекватна для описания украинских реалий, а также позволяет синтезировать наиболее сильные тезисы теории секуляризации и аргументы ее критиков. Так социологи Максим Паращевин обращает особое внимание на внутренние изменения религии: «В случае десекуляризации мы имеем дело не с буквальным возвращением к досекулярному состоянию, а с каким-то новым состоянием, в котором религия так или иначе модифицируется. И анализировать нужно не просто возвращение религии, но и новые качества, в которых она возвращается» (7, с. 102).
Какой будет церковь, воспринявшая вопросы секулярности и постсекулярности со всей серьезностью и честностью? Сможет ли она продолжить этот непростой диалог? Сможет ли предложить свою альтернативную повестку дня? Сможет ли явить собой возможность иного общества, нового мира? Эти вопросы формулируются в процессе взаимодействия церковных и общественных интеллектуалов, богословов и философов. Осмысливая эти вопросы и отвечая на них, церковь возвращается в общество. Но возвращение должно не столько радовать, сколько беспокоить: ведь это двойной экзамен – и на релевантность, и на инаковость; и на способность вписаться в более широкий общественный порядок, и на готовность принять у себя других.
А теперь давайте спросим себя о нашей украинской идее единой поместной православной церкви: какой возвращается церковь в общество, в какое общество возвращается церковь? Спросим не о том, нужна ли нам «своя» православная церковь, а о другом – какая именно церковь и какому именно обществу? Не достаточно чужую сделать своей, не достаточно заменить букву М на К. Сегодня есть шанс вместе с вопросом об автокефалии поставить более глубокие вопросы, иначе рискуем получить томос и на том успокоиться, получить каноничность и потерять шанс на реформы.
Украинская церковь хочет вернуться в общество, не замечая, какой на дворе год и какова эпоха. Церковь игнорирует опыт секулярности и постсекулярности, апеллируя к древним правилам и формулам, картам и спискам, которым описывают несуществующую реальность.
Попытки создать единую поместную церковь, заполучив автокефалию от Константинополя и разорвав зависимость от Москвы, – это попытки развязать старый узел старыми методами.
Автокефалия создает не церковь, а всего лишь легальные, хотя для многих спорные рамки для дальнейшей работы по восстановлению, а по сути, строительства новой церкви.
Как решается проблема раскола и каноничности? Через апелляцию к древним и отжившим правилам, которые исполняются весьма произвольны. Что даст нам томос? Статус? Независимость? Храмы? А людей в храмах, а религиозный подъем в обществе, а интерес молодежи к церкви?
Не грозит ли чрезмерная политизация этого вопроса дальнейшим отстранением общества от активной церковной жизни? Хотя президент уверил, что церковь не станет государственной, что мешает ей стать таковой?
Что, если противостояние по линии Москва-Киев перейдет в противостояние внутри страны, внутри церкви – за дележ портфелей и приходов? Не окажется ли успех автокефалии дискредитацией идеи церковного единства и христианского свидетельства обществу?
Наконец, если украинская поместная православная церковь возникнет, то согласится ли оно быть открытым обществом, в котором найдется место и другим церковным сообществам, традициям, подходам? Церковь можно будет назвать единой лишь в том случае, если место найдется для всех ветвей разделенного христианства, если церковь будет открытой и для многообразия украинского общества, и для разнообразия украинского христианства.
За исключением УПЦ (МП), все украинские церкви солидарны в стремлении украинского православия к автокефалии. Вопрос в другом – как будет сочетаться новый статус и новые возможности «национальной церкви» с уже наличным многообразием.
Каким бы ни был ответ от вселенского Патриарха относительно украинской автокефалии, он не сделает за нас нашу работу. Именно нам – гражданам и христианам Украины предстоит ответить на вопрос, что мы будем делать с нашим христианским многообразием, сможем ли найти мирный и взаимовыгодным формы сосуществования, дерзнем ли хоть в этом опередить наше общество и предложить ему действенную модель единства в многообразии; модель, которая отвечала бы не только вековым традициям церкви, но и ожиданиям постсекулярного общества.
Литература
1. Архімандрит Кирило (Говорун). Мета-еклезіологія: хроніки самоусвідомлення Церкви. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017.
2. Казанова Х. По той бік секуляризації. Релігія та секулярна динаміка нашої глобальної доби. – К: ДУХ І ЛІТЕРА, 2017.
3. Кюнг Г. Церковь. – М.: ББИ, 2012.
4. Мольтман Ю. Дух жизни. Целостная пневматология. – М.: ББИ, 2017.
5. Sawatsky W. Going Global with God as Mennonites for the 21st Century. – North Newton: Bethel College, 2017.
6. Хабермас Ю., Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Диалектика секуляризации. О разуме и религии. – М.: ББИ, 2006.
7. Паращевін М. Сучасні теорії та концепції релігійної динаміки: можливості застосування до українських реалій // ВІСНИК НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 3/4 (31-32) 2016. – C. 97-103.
<!—
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast
{mso-style-priority:34;
mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-type:export-only;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:0cm;
margin-left:36.0pt;
margin-bottom:.0001pt;
mso-add-space:auto;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-family:Cambria;
mso-ascii-font-family:Cambria;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"MS 明朝";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Cambria;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
@page WordSection1
{size:595.0pt 842.0pt;
margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
/* List Definitions */
@list l0
{mso-list-id:945892256;
mso-list-type:hybrid;
mso-list-template-ids:396110388 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715 67698703 67698713 67698715;}
@list l0:level1
{mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level2
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level3
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
@list l0:level4
{mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level5
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level6
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
@list l0:level7
{mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level8
{mso-level-number-format:alpha-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:left;
text-indent:-18.0pt;}
@list l0:level9
{mso-level-number-format:roman-lower;
mso-level-tab-stop:none;
mso-level-number-position:right;
text-indent:-9.0pt;}
—>