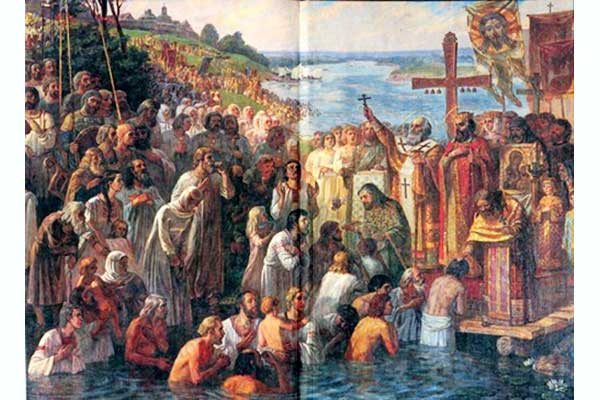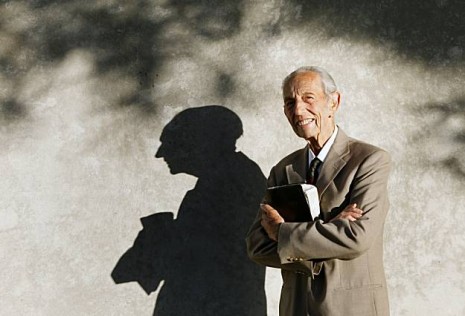Христианства будет все меньше
Интервью специальному корреспонденту RELIGO.RU Миколе Малухе об интеллектуалах в церкви и христианстве в светском мире
О ком вы говорите в своей последней книге «Культура влиятельного меньшинства»? Кто это меньшинство?
Сегодня в мире христианство представляет меньшинство, и его (христианства) будет все меньше. Это не то, чего я хочу, но это и не то, чего я опасаюсь. Оставаться в меньшинстве — не страшно, и к этому не привыкать.
Вы говорите, что христианства будет все меньше и меньше. Оно будет меньше численно или в своем влияния на общество?
И количественно тоже. Мы видим, как ближайшая перспектива складывается не в пользу христиан. И это меня мало беспокоит. Меня беспокоит как раз вторая часть вашего вопроса. Что будет с нами? Есть ли новые лица? Людей может быть не так много, но они могут быть яркими личностями, харизматичными лидерами; они могут быть творческими, сильными, устойчивыми, плодовитыми. И я хотел бы, чтобы христианство как раз задавалось не только вопросами своего количества, а переживало относительно продуцирования новых идей, продолжения своей истории. В связи с этим я скажу фразу, может быть не однозначную: если раньше христианство определялось своей историей (т.е. нам 1000 лет и мы имеем определенные права и привилегии), то сейчас христианство определяется горизонтом будущего.
Силу современного христианства определяет не древность истории, а видение своего будущего: готовимся ли мы к нему, что мы можем предложить. Достойное место в истории ничего не гарантирует в будущем. Поэтому нужны новые, реформационные, рискованные идеи.
Если переосмыслить ваши слова, то напрашивается следующий вывод: современная церковь (различных направлений) не способна создавать здоровую среду, где возникают интересные идеи.
Церковь, к сожалению, остается достаточно консервативным институтом, может быть одним из самых консервативных в этом обществе. Здесь важно понимать, что церковь — это не только институт, церковь — это живые люди. И чем больше в христианстве будет христиан (то есть личностей), которые смотрят вперед и шире, нежели большинство, тем быстрее в этой среде появятся интересные идеи, востребованные светским обществом.
Мысль может быть высокой, но когда она становится достоянием масс, то уже не удерживается на той высоте и начинает «пикировать», опускаясь все ниже и ниже до народного уровня.
И сегодня, кстати, пересматривается представление о христианстве и о его истории. Эта не только повествование о церковных институтах. За каждой реформацией стоит живая личность. Мне бы хотелось, чтобы мы обращали внимание на людей, от которых исходит динамика перемен, которые продуцируют новые идеи, вызывают диспуты. Возможно, их называют еретиками, но на них ссылаются, с ними спорят, именно они придают динамику истории.
Говоря об украинском христианстве, я назову одну структуру, имеющую прогрессивный взгляд на будущее — это Украинская греко-католическая церковь. УГКЦ недавно выбрала молодого и активного Патриарха, создала прекрасное образовательное учреждение — Украинский католический университет. В рамках благотворительного фонда «Каритас Украина» успешно занимается социальным служением.
Как раз здесь мы имеем хорошую иллюстрацию того, как яркие, одаренные и неординарные личности придают особый имидж всей конфессии и дают особенные сигналы для своей паствы какими нужно быть. Я имею в виду не только нынешнего новоизбранного предстоятеля Блаженнейшего Святослава Шевчука, достаточно вспомнить митрополита Андрея Шептицкого, Патриарха Иосифа Слепого, Патриарха Любомира Гузара, добровольно ушедшего в отставку. Масштабом своей личности, харизмой они определяли развитие церкви в большей степени, чем ее количественный показатель. Именно эти личности обусловили феномен возрождения греко-католической церкви там, где казалось бы ее вычеркнули из истории. У греко-католиков не было ни благоприятствующих политических обстоятельств, ни финансовой составляющей для развития своей церкви. Здесь как раз роль личностей подтверждает мою гипотезу.
Говоря о ярких личностях, стоит отметить особую роль мирян в УГКЦ. Например, правозащитник и диссидент Мирослав Маринович, с мнением которого считаются все львовяне — от мэра до обычных людей. Почему украинским протестантам нечего предложить светскому обществу? Почему в их среде нет людей калибра Мариновича, способных оказывать влияние? Протестантские церкви способны только удивлять светскую среду своим мракобесием.
Мракобесия я не вижу, а примитивизма очень много. Почему так получается? Я думаю это связано с народным происхождением протестантизма. Хотя с другой стороны мы видим, что первые реформаторы были высокообразованными людьми. Когда Реформация стала массовым народным движением, то даже стерлось упоминание о Лютере как о профессоре университета. Мысль может быть высокой, но когда она становится достоянием масс, то уже не удерживается на той высоте и начинает «пикировать», опускаясь все ниже и ниже до народного уровня. Проблема в том, что народ выдает мысли по своему образу и подобию, шьет, что ему удобнее и выдает это за богословие.
То есть это наша неотвратимая реальность?
Мне хочется верить, что уже пошел обратный процесс. Наша вера начинает углубляться и возвышаться. Начинает преодолеваться советский стереотип, из-за которого верующие изначально воспринимали себя как маргинальное сообщество.
Я был на конференции в Москве, где говорили о юбилее — 105 лет легализации российского баптизма. Вроде бы больше века на этой земле и должны стать своими, но тут же религиоведы из Южно–Сахалинска задают вопрос: нет, вы мне все-таки объясните, может какие-то геополитические интересы стояли за возникновением евангельского протестантизма на юге России, в Украине или скажем в Санкт-Петербурге?
Такое отношение не способствует социализации протестантов. Они могли бы сделать много чего хорошего, но знают переменчивость отношения к себе, помнят о том, что на них ярлык «чужие». Поэтому, с одной стороны, безусловно, это ответственность церкви, но с другой — это проблема общества, в котором очень трудно чувствовать себя своим. Проблема затрагивает более широкий круг вопросов: это касается отношения к евреям, женщинам, оппозиционерам, чернокожим.
Готовы ли мы принимать многообразие, готовы ли мы учиться добрососедству? Без этого любой проевропейский курс ни к чему не приведет. Потому что в Европе все с этого и начиналось. Протестантизм дал интересный опыт, когда меньшинство стало защищенным. Ты можешь быть в меньшинстве, но ты не будешь чувствовать, что твои гражданские права и свободы ограничены.
В прошлом году в Украине произошло одно яркое религиозное событие — это открытие храма Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормонов). Среди выступавших против этого, были, в том числе, и протестанты. С одной стороны, они борются за права и свободы, то есть против ксенофобии в свой адрес. С другой — встают на сторону православных реакционеров, регулярно объявляющих крестовые походы против инославных.
Ко мне очень часто обращаются за помощью: давайте организуем какую-нибудь кампанию против мормонов или снова разоблачим кого-нибудь еще. Меня совершенно не привлекает кого-то критиковать, хотя я сам не имею ничего общего с мормонами. Объединяться против кого-то я не буду. Я согласен с вами в том, что у нас очень часто требуют особых прав для своей конфессии. Так, согласно Виктору Януковичу, у нас есть церкви равные и «родные». Но на деле у нас выторговываются преференции для какой-то одной конфессии, и отказывается в конституционных правах всем остальным.
И в протестантизме это тоже есть: давайте то, что принадлежит сейчас православным — заберем себе, мы вроде лучше, мы — настоящие христиане, мы евангельские. Мне кажется, в основании такого мотива лежит ошибка: мы дадим особые права какой-то одной конфессии и откажем в свободах, правах другим, возможно даже самым опасным, но не потому, что они социально опасны, а из-за желания получить больше для себя — и льгот, и статусов, и денег. С этого начинается наше падение.
Об этом, кстати, очень четко говорил кардинал Любомир Гузар: особые права не столько лишают чего-то других, сколько вредят той самой конфессии, которая выторговала их для себя.
Для христиан кроме количества есть еще более важные вопросы: определиться со своей идентичностью, миссией и призванием. Мне кажется это куда более тонкие и более сложные материи, и поэтому о них предпочитают не говорить.
Очень жаль, что протестанты иногда хотят добиться какого-то микрофона, кафедры, особого положения в обществе, оттесняя, выталкивая других на обочину. Права у нас декларируются, но нарушаются, потому что мы требуем прав для религии, но права и свободы внутри религии почти отсутствуют. Протестантские лидеры хотят получить что-то, но распоряжаться этим и уважать чувства других (даже наших оппонентов), вольнодумцев или даже внутренних еретиков совершенно не готовы.
Исходя из логики ваших слов, лучшее время для любой конфессии — когда она находится в меньшинстве.
Ни одно меньшинство не смиряется со своим статусом кво. Оно вынашивает определенные планы по количественному развитию. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше христиан в обществе, самых разных. Ведь многообразие обогащает.
Смиряться ни с чем не стоит, но нужно быть готовым к тому, что наши надежды и наши позитивные планы окажутся невыполнимы. Каждая церковь может вызывать определенный резонанс, она будет фактором инаковости, непохожести, кого-то раздражать, у кого-то вызывать ненависть. Но для кого-то она будет маячком, который зовет на свой свет и показывает дорогу. Поэтому смиряться не надо, но быть готовым находиться в положении меньшинства нужно.
Для христиан кроме количества есть еще более важные вопросы: определиться со своей идентичностью, миссией и призванием. Мне кажется это куда более тонкие и более сложные материи, и поэтому о них предпочитают не говорить. Когда пасторы строят головокружительные планы о количественном росте, совсем не задумываются над тем, что мы даем людям, как мы отвечаем на их вопросы. Евангелизация в эпоху постмодерна не должна быть рекламной акцией: приходите, наши двери открыты! И это не только проблема протестантских церквей, сегодня церкви борются за свое влияние, но думают ли они, с чем встречать людей? Это уже второй вопрос.
Вы говорите, что будущее за «христианством христиан», нежели за «христианством институтов». Значит будущее за парацерковными организациями, объединяющимися не на конфессиональной, а на иной основе?
Безусловно, сейчас время взаимопроникающих связей, когда на самом деле быть католиком и быть протестантом — это совмещается, может соприсутствовать в одном и том же человеке. Например, я могу увлекаться византийским богословием и при этом быть евангельским протестантом, прихожанином баптистской церкви. Могу быть прихожанином данной церкви, потому что там проповедуется простое Евангелие, а еще есть воскресная школа, где для моих детей есть прекрасные занятия, где они могут развиваться в здоровой обстановке. Но, будучи протестантом сего дня, я могу придерживаться богословской парадигмы совсем другой эпохи. И это не вступает в противоречие. Время, когда все взаимопроникает, не разделяет друг друга по границам, а на разных уровнях соприсутствует.
Нас могут объединить совместные дела — это христианское просвещение, христианская культура, история церкви. Недавно мой хороший друг Юрий Черноморец написал монографию о византийском неоплатонизме, где изложил свой специфический взгляд на историю православной мысли Византии. Она интересна всем — и католикам, и православным, и протестантам.
Есть проекты, в которых мы можем вместе создавать. И, в конце концов, простое и неисчерпаемо богатое Евангелие — это то, что нас объединяет. Намного интереснее (для светской среды и самих себя) предложить нашему миру Евангелие и свои свидетельства о том, как оно изменило нашу жизнь, наши судьбы. Нас объединяет Евангелие, которое не сглаживает и не подавляет разнообразие. Мы разные, и это здорово
RELIGO.RU