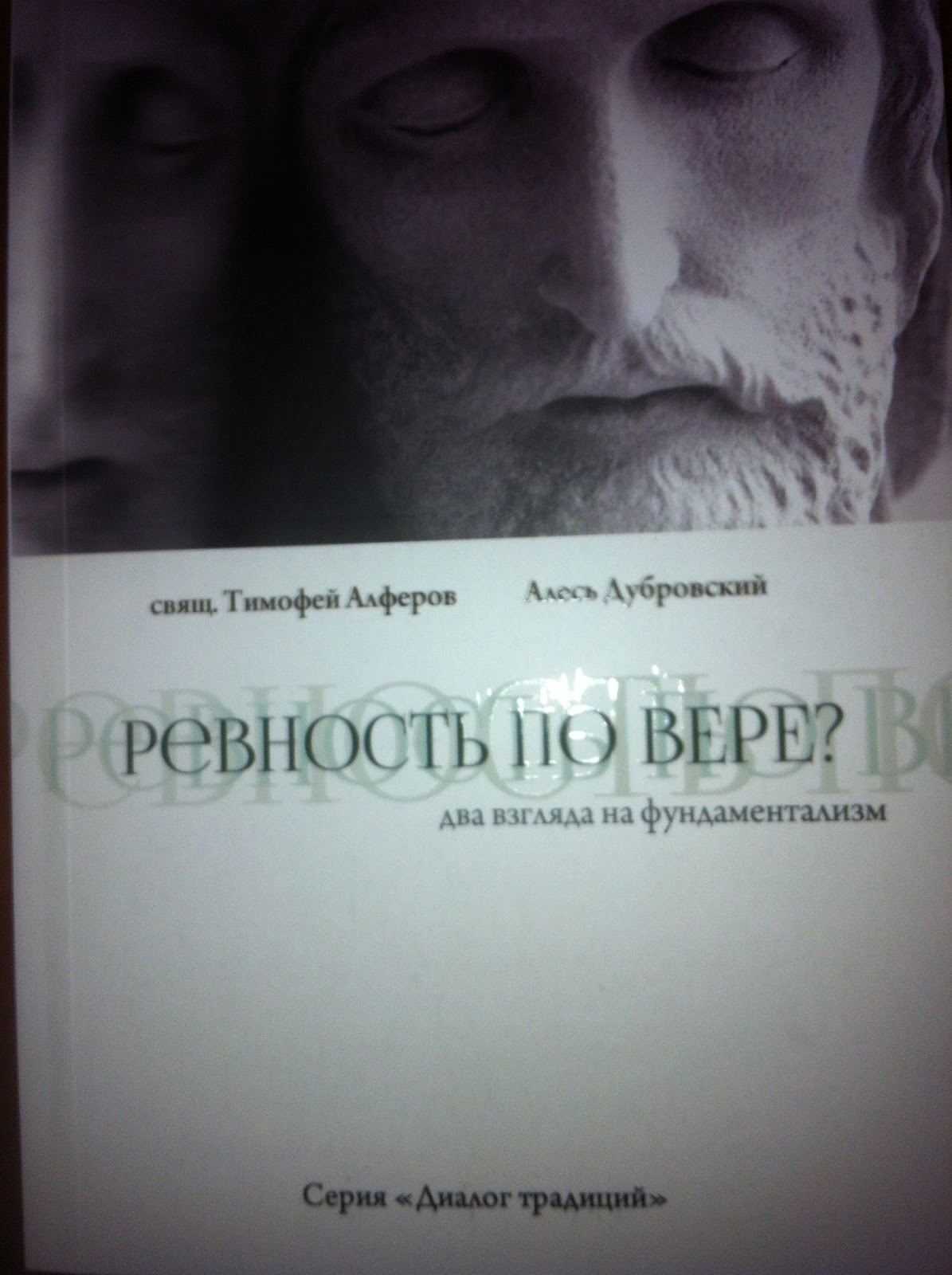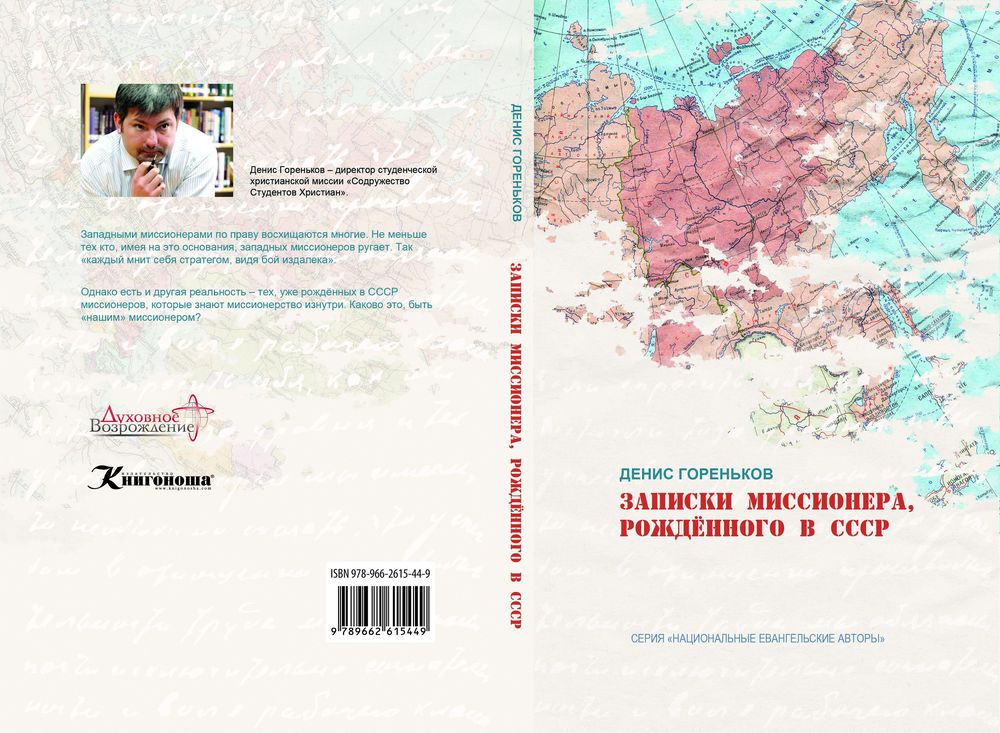Из Европы ли дьявол?

religion.in.ua

При всем своем загнивании Европа для постсоветских стран остается центром – и притяжения, и отталкивания.
«Европа» – это и европейский вектор развития, политический выбор; это и стандарты жизни; это и тип культуры. Относительно первого спорят политики. Относительно второго никто не спорит, все этого хотят. Относительно третьего спорят все, особенно люди религиозные. Обсуждение толерантности, прав меньшинств, свободы и достоинства человека легко переходит в спор о судьбе традиционных ценностей и христианского наследия, от которого лишь один шаг до демонизации современной Европы.
Странно, что «антихристов лик Европы» так плохо прикрыт и легко заметен. Странно и то, что «Святая Русь» не затронута плохим влиянием, хотя согласно Священному Писанию, тьма покроет всю землю, святые будут побеждены и власть зверя распространится на все народы (Откр. 13:7).
Уже в этом упрощенном делении на святые и несвятые территории видится отчасти наивное, а отчасти предвзятое отношение. Фанатичные борцы с «тлетворным Западом» забывают, что «Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Пс. 23:1). Хотя вот вам другой пример — православный подвижник, соратник и ученик Серафима Саровского Николай Мотовилов в записках “служки Божией Матери и Серафимова” оставил пророчество о рождении антихриста «между Петербургом и Москвой, в том великом городе, который по соединении всех племен славянских с Россией будет второй столицей царства Русского и назван будет “Москво-Петроградом”, или “Градом конца”».
Как антихрист действует по всей земле, обольщая живущих на ней, так и Дух Святой действует всюду, сохраняя святой остаток и доброе влияние. Это более сложная картина мира, в которой нет пяди чистой, христианской территории, зато везде и всюду есть присутствие Божье. Такая картина гораздо более христианская, чем простое деление на Запад и Восток, Европу и Русь, на антихристовы и святые земли.
Вспомним, что Павел, «апостол язычников», шел с Востока на Запад, от Иерусалима до культурного центра — Афин, а затем и до имперской столицы — Рима.
«Требую суда кесарева» — сказал он после того, как иудеи обвинил его в святотатстве и нарушении законов. Чужой Рим, а не «святой» Иерусалим стал для него местом суда и прений. Используя свое гражданское право, апостол апеллирует к власти императора и справедливости суда. На вопрос Феста «Хочешь ли идти в Иерусалим?», Павел отвечает: «Я стою перед судом кесаревым, где мне и надлежит быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь. Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева» (Деян. 25:10-11).
В Иерусалиме распяли Христа. Праведника умертвили ради защиты традиционных ценностей. В Риме больше религии ценили право. Но и там умирали христиане – на аренах амфитеатрах или на крестах.
Демократическая Европа и традиционно религиозный Восток – одинако опасны для христиан, дерзнувших следовать за своим Учителем, а не за традиционными ценностями или переменчивой имперской модой.
Не так давно черкасское издательство Коллоквиум выпустило перевод книги христанского философа Джеймса Смита «Кто боится постмодернизма?» (Смит Дж. Церковь и постмодернизм. – Коллоквиум, 2012). Автор постмодернизма не боится, и не советует бояться другим. Напротив, он демонстрирует хороший пример позитивных христианских прочтений постмодернистских тезисов. Первая глава книги – «Из Парижа ли дьявол?» — призывает отнестись к парижской «несвятой троице» без гнева и пристрастия. Деррида, Лиотар и Фуко – не могут быть христианизированы, но и не должны быть демонизированы.
Вопросы Джеймса Смита могут быть распространены не только на постмодернизм как господствующее умонастроение, но и на весь современный мир, пока остающийся европоцентричным: «Кто боится Европы?», «Из Европы ли дьявол?».
Бояться не нужно. В конце концов, не так страшна Европа…
Не так страшна Европа, как ее представляют «православные» кликуши и «протестантские» фундаменталисты.
Не так страшна Европа, как ее азиатская альтернатива в формате «таежного союза».
Всюду страшно без Бога. А с Ним жить можно везде.